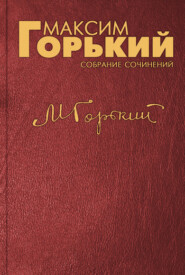 Полная версия
Полная версияЖизнь Матвея Кожемякина
Уходя, она ещё улыбнулась, и это несколько успокоило тревогу, снова поднятую в нём пугающими словами – Сибирь, ссылка, политическое преступление. Особенно многозначительно было слово политика, он слышал его в связи с чем-то страшным и теперь напряжённо вспоминал, – когда и как это было?
Он чувствовал себя усталым, как будто беседа с постоялкой длилась целые часы, сидел у стола, вскинув руки и крепко сжимая ладонями затылок, а в памяти назойливо и зловеще, точно осенний ветер, свистели слова – Сибирь, ссылка. Но где-то под ними тихо росла ласковая дума:
«Подбородок у ней – будто просвира. И ямка на нём – детская, куда ангелы детей во сне целуют. А зубы белые какие, – на что она их мелом-то?»
Вдруг его тяжко толкнуло в грудь и голову тёмное воспоминание. Несколько лет назад, вечером, в понедельник, день будний, на колокольнях города вдруг загудели большие колокола. В монастыре колокол кричал торопливо, точно кликуша, и казалось, что бьют набат, а у Николы звонарь бил неровно: то с большою силою, то едва касаясь языком меди; медь всхлипывала, кричала.
Матвей выбежал за ворота, а Шакир и рабочие бросились кто куда, влезли на крышу смотреть, где пожар, но зарева не было и дымом не пахло, город же был охвачен вихрем тревоги: отовсюду выскакивали люди, бросались друг ко другу, кричали, стремглав бежали куда-то, пропадая в густых хлопьях весеннего снега.
Кто-то скакал на чёрном коне к монастырю и, протянув вперёд руку, неистово орал:
– Пере-еста-ать! Не зво-они-и!
А у Николы звонили всё гуще и мрачнее.
На бегу люди догадывались о причине набата: одни говорили, что ограблена церковь, кто-то крикнул, что отец Виталий помер в одночасье, а старик Чапаков, отставной унтер, рассказывал, что Наполеонов внук снова собрал дванадесять язык, перешёл границы и Петербург окружает. Было страшно слушать эти крики людей, невидимых в густом месиве снега, и все слова звучали правдоподобно.
– Реки-чу вскрылись не вовремя! – говорил кто-то позади Матвея, безнадёжно и густо. – Потоп наступает, слышь…
– Кто говорит?
– Депеша пришла!
– Нам потоп не тревога – мы высоко живём…
В сумраке вечера, в мутной мгле падающего снега голоса звучали глухо, слова падали на голову, точно камни; появлялись и исчезали дома, люди; казалось, что город сорвался с места и поплыл куда-то, покачиваясь и воя.
Вот старик Базунов, его вели под руки сын и зять; без шапки, в неподпоясанной рубахе и чёрном чапане[8] поверх неё, он встал как-то сразу всем поперёк дороги и хриплым голосом объявил на весь город:
– Чего зря лаете? Али не слышите по звону-то – государь Александра Миколаич душу богу отдал? Сымай шапки!
Все вдруг замолчали, и стало менее страшно идти по улицам среди тёмных и немых людей.
Потом Кожемякин стоял в церкви, слушал, как священник, всхлипывая, читал бумагу про убийство царя, и навсегда запомнил важные, печальные слова:
– «Неисповедимые веления промысла – свершились…»
Было в этих словах что-то отдалённо знакомое, многообразно связанное со всею жизнью.
Его очень беспокоил Шакир, он тоже стоял в церкви, тряс головой и мычал, точно у него болели зубы, – Матвей боялся, как бы окуровцы не заметили и не побили татарина.
Но церковь была почти не освещена, только в алтаре да пред иконами, особо чтимыми, рассеянно мерцали свечи и лампады, жалобно бросая жёлтые пятна на чёрные лики. Сырой мрак давил людей, лиц их не было видно, они плотно набили храм огромным, безглавым, сопящим телом, а над ними, на амвоне, точно в воздухе, качалась тёмная фигура священника.
Из церкви Матвей вынес тупое недоумение и боль в голове, точно он угорел. Стояли без шапок в ограде церкви, Шакир чесал грудь, чмокал и ныл.
– Засем эта? Ай-яй, какой людя, озорства всегда…
– Молчи-ка! – сказал Кожемякин. – Слушай, чего говорят…
Говорили многие и разно, но все одинаково угрюмо, негромко и неуверенно.
– Поди – англичанка подкупила…
– Турки тоже…
– И турки! Они – могут!
– Побил он их!
– Ой, Шакир, гляди – привяжутся к тебе! – шепнул Кожемякин татарину.
А тот – рассердился:
– Я – турка? Мы Россиям живём, мы – своя люди, что ты?
И всё плыл, понижаясь, тихий, задумчивый гул:
– Не впервой ведь насыкались они на него…
– Кто?
– А эти…
– Кто – эти?
– Ну, а я почём знаю? Спроси полицию, это ей знать!
Вдруг чей-то высокий голос крикнул, бодро и звонко:
– Теперь, обыватели, перемены надо ждать!
И тотчас многие голоса подхватили с надеждой:
– Конечно уж…
– Перемены… н-да-а…
– После Николай Павлыча были перемены…
– Как же! Откупа, первое…
– Не дай бог!
– Мужиков из крепости вывел…
– Рекрутчина общая…
– Это тоже многих подшибло!
– А на фитанцах[9] как нажились иные?
– Не дай господи, как пойдёт ломка опять!
Где-то сзади Матвея гулко и злорадно взревели:
– Господишки это, дворянишки всё, политика это, тесно, вишь, им! Политика, говорю, сделана! Из-за мужиков они, чтоб опять крепость установить…
– Вер-рно! – хрипло закричал Базунов. – Дворяне! Политика сделана-а!
И человек двадцать именитых граждан, столкнувшись в кучу, галдели вперебой о дворянах, о жадности их, мотовстве и жестокости, о гордости и всех пороках нелюбимого, издревле враждебного сословия господ.
– А сам – какой? – ворчал Шакир.
– Праведники! – тихо отозвался Кожемякин. – Айда домой!
И пора было уходить: уже кто-то высокий, в лохматой шапке, размахивал рукою над головами людей и орал:
– Стой, мерзавец! Ты – кто? Городовой! Я тебе покажу, крамольник! Возьми его, Захар! Ты кто, старик, а? Б-базунов? Ага!
Кожемякин с Шакиром отошли шагов на десять, и густой снег погасил воющие голоса людей; на улице стало тихо, а всё, что слышали они, точно скользнуло прочь из города в молчание белых полей.
Но сегодня, сейчас вот, всё это вновь возвратилось, памятное и сжатое, встало перед глазами сохранно, как написанное пылающими красками на стене церкви, грозило и наполняло страхом, внушая противоречивые мысли:
«Пусть уедет, бог с ней! Сын про царя поёт – родимый, голубчик – про царя! А мать вон оно что! Куда теперь ехать ей? Нету здесь квартир, и были бы – не пустят её, – побить даже могут. Это – как раз!»
Вошла Наталья, весело спрашивая:
– Убирать самовар-от?
– Пошли Шакира скорее!..
И Шакир пришёл весёлый.
– Чего скалишь зубы-то? Сядь-ко…
Татарин сел, потряхивая головою и улыбаясь.
– Знаешь, – тихо заговорил Кожемякин, – за что она в Сибири-то была? Помнишь – царя убили? Она из этих людей…
Шакир отрицательно потряс головой.
– Нет, она четыр годы раньше Сибирям ехал…
И, не ожидая возражений хозяина, оживлённо продолжал:
– Борка всё знайт, ух какой мальчика! Хороший людя, – ух!
– Чем? – спросил Матвей, и не веря и радуясь.
– Ух, – всё, – очен!
– Да ты не ухай, – ты толком скажи!
Татарин махнул рукой и засмеялся, восклицая:
– Айда везде! Ему все людя хороша – ты, я – ему всё равной! Весёлый! Я говорю: барына, она говорит: нет барына, Евгень Петровна я! Я говорю – Евгень всегда барына будит, а она говорит: а Наталья когда будит барына? Все барыны, вот как она! Смеял я, и Борка тоже, и она, – заплакал потом, вот как смешной!
– Смеётся она? – сомневаясь, осведомился Матвей.
– Сколки хошь! Голова дёрнул вверх, катай – айда!
Он шумно схлёбывал чай, обжигался, перехватывал блюдце с руки на руку, фыркал и всё говорил. Его оживление и ласковый блеск радостно удивлённых глаз спугнули страх Матвея.
– Что ж она говорила? – допытывался он.
– Всё! Ух, такой простой…
– Ну, бог с ней! – решил Кожемякин, облегчённо вздыхая. – Ты однако не говори, что она из этих!
– Зачем буду говорить? Кто мне верит?
– Дурному всяк поверит! Народ у нас злой, всё может быть. А кто она – это дело не наше. Нам – одно: живи незаметно, как мы живём, вот вся задача!
Он долго внушал Шакиру нечто неясное и для самого себя; татарин сидел весь потный и хлопал веками, сгоняя сон с глаз своих. А в кухне, за ужином, о постоялке неустанно говорила Наталья, тоже довольная и заинтересованная ею и мальчиком.
– Такая умильная, такая ли уж великатная, ну – настоящая госпожа!
Матвей, всё более успокаиваясь, заметил:
– Эк вы, братцы, наголодались по человеке-то! Ничего не видя, а уж и то и сё! Однако ты, Наталья, не больно распускай язык на базаре-то и везде, – тут всё-таки полиция причастна…
И замолчали, вопросительно поглядывая друг на друга.
Дробно барабаня пальцами по столу, Кожемякин чувствовал, что в жизнь его вошло нечто загадочное и отстраниться от загадки этой некуда.
«Да и охоты нет отстраняться-то, – покорно подумал он. – Пускай будет что будет, али не всё равно?»
И вспомнил, что Шакир в первый год жизни в доме у него умел смеяться легко и весело, как ребёнок, а потом – разучился: смех его стал звучать подавленно и неприятно, точно вой. А вот теперь – татарин снова смеётся, как прежде.
«Детей он любит, – когда они свиным ухом не дразнятся и камнями не лукают…»
Ночью, лёжа в постели, он слышал над головой мягкий шорох, тихие шаги, и это было приятно: раньше, бывало, на чердаке шуршали только мыши да ветер, влетая в разбитое слуховое окно, хлопал чем-то, чего-то искал. А зимою, тихими морозными ночами, когда в поле, глядя на город, завистливо и жалобно выли волки, чердак отзывался волчьему вою жутким сочувственным гудением, и под этот непонятный звук вспоминалось страшное: истекающая кровью Палага, разбитый параличом отец, Сазан, тихонько ушедший куда-то, серый мозг Ключарёва и серые его сны; вспоминалась Собачья Матка, юродивый Алёша, и настойчиво хотелось представить себе – каков был видом Пыр Растопыр?
Когда над городом пела и металась вьюга, забрасывая снегом дома до крыш, шаркая сухими мохнатыми крыльями по ставням и по стенам, – мерещился кто-то огромный, тихонький и мягкий: он покорно свернулся в шар отребьев и катится по земле из края в край, приминая на пути своём леса, заполняя овраги, давит и ломает города и села, загоняя мягкою тяжестью своею обломки в землю и в безобразное, безглавое тело своё. Незаметно, бесшумно исчезают под ним люди, растёт оно и катится, а позади него – только гладкая пустыня, и плывёт над нею скорбный стон:
– Помоги!
Первый месяц жизни постоялки прошёл незаметно быстро, полный новых маленьких забот: Шакир уговорил хозяина переложить на чердаке печь, перестлать рассохшийся пол, сделать ещё целую кучу маленьких поправок, – хозяин морщился и жаловался:
– Тут на починку столько денег уйдёт, что и в два года она мне их не покроет, постоялка-то!
– Нисяво! – весело утешал татарин. – Наша говорит – «хороша людя дороже деньга!»
– Да я не столь о деньгах, а возня это – стучат, скрипят!
На время, пока чердак устраивали, постоялка с сыном переселилась вниз, в ту комнату, где умерла Палага; Кожемякин сам предложил ей это, но как только она очутилась на одном полу с ним, – почувствовал себя стеснённым этой близостью, чего-то испугался и поехал за пенькой.
Ездил и всё думал о ней одни и те же двуличные, вялые думы, отягощавшие голову, ничего не давая сердцу.
Ясно было только одно:
«Она тоже всем тут чужая, вроде как я…»
Эта грустная мысль была приятна и торопила домой.
Воротясь и увидав комнату Палаги пустой уже, Матвей вздохнул, жалея о чём-то.
Подходила зима. По утрам кочки грязи, голые сучья деревьев, железные крыши домов и церквей покрывались синеватым инеем; холодный ветер разогнал осенние туманы, воздух, ещё недавно влажный и мутный, стал беспокойно прозрачным. Открылись глубокие пустынные дали, почернели леса, стало видно, как на раздетых холмах вокруг города неприютно качаются тонкие серые былинки.
Уже отгуляли рекрута – в этом году не очень буйно: вырвали три фонаря на базарной площади, выбили стёкла в доме земской управы и, когда дрались со слободскими, сломали часть церковной ограды у Николы, – палки понадобились.
А в Балымерах племянник кулака Мокея Чапунова в петлю полез со страха перед солдатчиной, но это не помогло: вынули из петли и забрили.
Вечера становились неиссякаемо длинными. В прошлые годы Матвей проводил их в кухне, читая вслух пролог или минеи, в то время как Наталья что-нибудь шила, Шакир занимался делом Пушкаря, а кособокий безродный человек Маркуша, дворник, сидя на полу, строгал палочки и планки для птичьих клеток, которые делал ловко, щеголевато и прочно. Иногда играли в карты – в дураки и свои козыри, а то разговаривали о городских новостях или слушали рассказы Маркуши о разных поверьях, о мудрости колдуний и колдунов, поисках кладов, шутках домовых и всякой нечистой силы.
Но теперь в кухне стал первым человеком сын постоялки. Вихрастый, горбоносый, неутомимо подвижной, с бойкими, всё замечавшими глазами на круглом лице, он рано утром деловито сбегал с верха и здоровался, протягивая руку со сломанными ногтями.
– Я буду вам помогать, Наташа!
В коротенькой рыжей курточке, видимо, перешитой из мужского пиджака, в толстых штанах и валенках, обшитых кожей, в котиковой, всегда сдвинутой на затылок шапочке, он усаживался около Натальи чистить овощи и на расспросы её отвечал тоном зрелого, бывалого человека.
– Как же вы, миленький, ехали-то?
– Очень просто, – на лошадях!
– Чай, городов-то сколько видели?
Прищурив глаза, он перечислял:
– Екатеринбург, Пермь, Сарапуль, – лучше всех – Казань! Там цирк, и одна лошадь была – как тигр!
– Ой, господи! – вздыхала Наталья.
– Полосатая, а ноги – длинные, и от неё ничего нельзя спрятать…
Подробно рассказав о лошади, подобной тигру, или ещё о каком-нибудь чуде, он стряхивал с колен облупки картофеля, оглядывался и говорил:
– Шакир, давайте чего-нибудь делать!
– Айда, завод глядим!
На пустыре Борю встречали широкими улыбками, любопытными взглядами.
– С добреньким утречком!
Взмахивая шапкой, Борис Акимович солидно отвечал:
– Здравствуйте, господа! Бог на помощь!
– Благодарим! – отвечали господа, шлёпая лаптями по натоптанной земле.
– Маркуша! Давайте мне работу!
– На-ко, миляга, на! – сиповато говорил Маркуша, скуластый, обросший рыжей шерстью, с узенькими невидными глазками. Его большой рот раздвигался до мохнатых, острых, как у зверя, ушей, сторожко прижавшихся к черепу, и обнажались широкие жёлтые зубы.
– Ты, Боря, остерегайся его! – предупредили однажды Борю мужики. – Он колдун, околдует тебя!
Человек семи лет от роду пренебрежительно ответил:
– Колдуны – это только в сказках, а на земле нет их!
В сыром воздухе, полном сладковатого запаха увядших трав, рассыпался хохот:
– Ах, мать честная, а?
– Маркух – слыхал?
– Нету, брат, тебя…
Полуслепой Иван гладил мальчика по спине, причитая:
– Ой ты, забава, – ой ты, малая божья косточка!
Маркуша тряс животом, а Шакир смотрел на всех тревожно, прищурив глаза.
Кожемякин, с удивлением следя за мальчиком, избегал бесед с ним: несколько попыток разговориться с Борей кончились неудачно, ответы и вопросы маленького постояльца были невразумительны и часто казались дерзкими.
– Нравится тебе у меня? – спросил он однажды. Мальчик взмахнул ресницами, сдвинул шапку на затылок.
– Разве я у вас?
– А как? Дом-от чей? Мой! И двор и завод…
– А город?
– Город – царёв.
Боря подумал.
– Вы что делаете?
– Я? Верёвку, канат…
– Нет, – топнув ногой, повторил Боря, – что делаете вы?
– Я? Я – хозяин, слежу за всеми…
– Вас вовсе и не видно!
– А твой тятя что делал?
– Тятя – это кто?
– Отец, – али не знаешь?
– Отец называется – папа.
– Ну, папа! У нас папой ребятёнки белый хлеб зовут. Так он чем занимался, папа-то?
– Он?
Боря нахмурился, подумал.
– Книги читал. Потом – писал письма. Потом карты рисовал. Он сильно хворал, кашлял всё, даже и ночью. Потом – умер.
И, оглянув двор, накрытый серым небом, мальчик ушёл, а тридцатилетний человек, глядя вслед ему, думал:
«Врёт чего-то!»
В другой раз он осведомился:
– Как мамаша – здорова?
Боря, поклонясь, ответил:
– Благодарю вас, да, здорова.
«Ишь ты!» – приятно удивлённый вежливостью, воскликнул Матвей про себя.
– Не скучает она?
– Она – большая! – вразумительно ответил мальчик. – Это только маленьким бывает скучно.
– Ну, – я вот тоже большой, а скучаю!
Тогда Борис посоветовал ему:
– А вы возьмите книжку и почитайте. Робинзона или «Родное слово», – лучше Робинзона!
«Какое родное слово? О чём?» – соображал Матвей.
И каждый раз Боря оставлял в голове взрослого человека какие-то досадные занозы. Вызывая удивление бойкостью своих речей, мальчик будил почти неприязненное чувство отсутствием почтения к старшим, а дружба его с Шакиром задевала самолюбие Кожемякина. Иногда он озадачивал нелепыми вопросами, на которые ничего нельзя было ответить, – сдвинет брови, точно мать, и настойчиво допытывается:
– Почему здесь много ворон?
– Ну, разве это можно знать?
– А почему нельзя? Запрещается?
– Н-нет, – а просто – зачем?
– Вы их любите?
– Ворон-то? Чай, их не едят, чудак ты!
– Чижей тоже не едят, а вы их любите!
– Так они поют!
Казалось, что это удовлетворило Борю, но, подумав, он спросил:
– Разве любят за то, что – можно есть или – что поют?
Кожемякина обижали подобные вопросы, ему казалось, что эта маленькая шельма нарочно говорит чепуху, чтобы показать себя не глупее взрослого.
Однажды Маркуша, сидя в кухне, внушал Борису:
– Кот – это, миляга, зверь умнеющий, он на три локтя в землю видит. У колдунов всегда коты советчики, и оборотни, почитай, все они, коты эти. Когда кот сдыхает – дым у него из глаз идёт, потому в ём огонь есть, погладь его ночью – искра брызжет. Древний зверь: бог сделал человека, а дьявол – кота и говорит ему: гляди за всем, что человек делает, глаз не спускай!
– Вы видали дьяволов? – спросил Боря звонко и строго.
– Храни бог! На что они мне надобны?
– А вы, дядя Матвей, видали?
– Ну вот, – где их увидишь?
Мальчик, нахмурясь, солидно сказал:
– Это вы всё смеётесь надо мной, потому что я – ещё маленький! А дьяволов – никто не видел, и вовсе их нет, мама говорит – это просто глупости – дьяволы…
Он прищурил глаза, оглядывая тёмные углы кухни.
– Если бы они были, и домовые тоже, я уж нашёл бы! Я везде лазию, а ничего нет нигде – только пыль, делаешься грязный и чихаешь потом…
Маркуша, удивлённо открыв рот, затрясся в припадке судорожного смеха, и волосатое лицо его облилось слезами, точно вспотело, а Матвей слушал сиплый, рыдающий смех и поглядывал искоса на Борю, думая:
«Хитрюга мальчонок этот! Осторожно надо с ним, а то и высмеет, – никакого страха не носит он в себе, суётся везде, словно кутёнок…»
Было боязно видеть, как цепкий человечек зачем-то путешествует по крутой и скользкой крыше амбара, висит между голых сучьев деревьев, болтая ногами, лезет на забор, утыканный острыми гвоздями, падает и – ругается:
– Ах, язва, чёрт!
«Без отца, – без начала», – думал Кожемякин, и внимание его к мальчику всё росло.
Задевала песня, которую Боря неугомонно распевал – на земле, на крыше, вися в воздухе.
Не с росой ли ты спустилась,Не во сне ли ви-жу я,Аль горя-чая моли-итваДоле-тела до царя?– Это про какого царя сложено?
– Который освободил крестьян…
Пристально глядя в лицо ребёнка, Кожемякин тихо сказал:
– Да, вот он освободил людей, а его убили…
Боря с горячим интересом воскликнул:
– На войне?
– Нет, просто так, на улице, бомбой…
– Этого не бывает! – сказал мальчик неодобрительно и недоверчиво. – Царя можно убить только на войне. Уж если бомба, то, значит, была война! На улицах не бывает бомбов.
Кожемякин смущённо замолчал, и острое чувство жалости к сироте укололо полуживое сердце окуровского жителя.
«А вдруг окажется, что и родители твои к войне этой причастны?» – подумалось ему.
Отношение матери к сыну казалось странным, – не любит, что ли, она его?
Однажды Боря вдруг исчез со двора. Шакир и Наталья забили тревогу, а постоялка сошла в кухню и стала спокойно уговаривать их:
– Ничего страшного нет, – придёт! Он привык бегать один.
– Ай, матушка! – суетясь, точно испуганная курица, кудахтала Наталья. – Куда ему бегать? Как это можно! Город-от велик, и собаки в нём, и люди пьяные, а и трезвый злой человек – диво ли?
– Ну, вот, и пусть он увидит всё это! – сказала постоялка, усмехаясь.
«Неужто не боится?» – соображал Матвей, неприметно разглядывая её уверенное лицо, и напомнил ей:
– Семь лет ему.
– В январе – восемь уж будет.
«В апреле зачат!» – быстро сосчитал Матвей.
Шакир, нахлобучив шапку, убежал на улицу и скоро привёл Бориса, синего от холода, с полузамёрзшими лапами, но очень довольного прогулкой. Наталья растирала ему руки водкой, а он рассказывал:
– Хотели на меня напасть два больших мальчика, а я им как погрозил кулаком…
– Не хвастай, Борька! – сказала мать.
– Почём ты знаешь, что этого не было? – задумчиво спросил он.
– Потому, что тебя знаю.
– Правда, не было! Ничего интересного не было. Просто шли люди вперёд и назад, немного людей, – потом один человек кидал в собаку лёдом, а будочник смеялся. Около церкви лежит мёртвая галка без головы…
Приглаживая его вихры, мать ласково молвила:
– Ну вот это правда!
– Да, – сказал мальчик, вздохнув.
Кожемякин тихонько засмеялся.
– Хотел придумать поинтересней что, а мамаша-то и не позволила!
– Он у меня мечтатель, а это – вредно! Надо знать жизнь, а не выдумывать.
Она точно на стене написала эти слова крупными буквами, и Матвею легко было запомнить их, но смысл этих слов был неясен для него.
«Разве можно выдумать жизнь?»
Он заметил, что постоялка всегда говорит на два лада: или неуважительно – насмешливо и дерзко, или строго – точно приказывая верить ей. Часто её тёмные глаза враждебно и брезгливо суживались под тяжестью опущенных бровей и ресниц, губы вздрагивали, а рот становился похож на злой красный цветок, и она бросала сквозь зубы:
– Это – глупости! Это – чепуха!
Вызывающе выпрямлялась, и все складки одежды её тоже становились прямыми, точно на крещенских игрушках, вырезанных из дерева, или на иконах.
Она редко выходила на двор и в кухню, – Наталья сказывала, что она целые дни всё пишет письма, а Шакир носил их на почту чуть не каждый день. Однажды Кожемякин, взяв конверт из рук татарина, с изумлением прочитал:
– Казань. Его превосходительству – эгэ-э… пре-вос-ходительству, гляди-ка ты! Георгию Константиновичу Мансурову? И она Мансурова, – дядя, что ли, это? Неси скорей, Шакир, смотри, не потеряй!
С той поры он стал кланяться ей почтительнее, ниже и торопился поклониться первым.
Иногда он встречал её в сенях или видел на крыльце зовущей сына. На ходу она почти всегда что-то пела, без слов и не открывая губ, брови её чуть-чуть вздрагивали, а ноздри прямого, крупного носа чуть-чуть раздувались. Лицо её часто казалось задорным и как-то не шло к её крупной, стройной и сильной фигуре. Было заметно, что холода она не боится, ожидая сына, подолгу стоит на морозе в одной кофте, щёки её краснеют, волосы покрываются инеем, а она не вздрагивает и не ёжится.
«Здоровая! – одобрял Матвей. – Привыкла в Сибирях-то…»
И очень хотелось поговорить с нею о чём-нибудь весело и просто, но – не хватало ни слов, ни решимости.
Случилось, что Боря проколол себе ладонь о зубец гребня, когда, шаля, чесал пеньку. Обильно закапала на снег алая кровь, мужики, окружив мальчика, смотрели, как он сжимал и разжимал ярко окрашенные пальцы, и чмокали, ворчали что-то, наклоняя над ним тёмные рожи, как большие собаки над маленькой, чужой.
– Это вовсе не больно! – морщась и размахивая рукою, говорил Боря.
– Да-кось, я тебе заговорю кровь-то, – сказал Маркуша, опускаясь на колени, перекрестился, весь ощетинился и угрожающе забормотал над рукою Бори:
– Как с гуся вода, чур, с беса руда! Вот идёт муж стар, вот бежит конь кар – заклинаю тя, конь, – стань! Чур! В Окиане-море синий камень латырь, я молюся камню…
– Не надо! – крикнул мальчик. – Пустите меня!
Но его не слушали, – седой, полуслепой и красноглазый Иван укоризненно кричал:
– Это от поруба заговор, а не от покола!
– Подь к домовому, не лезь! – возразил Маркуша.
Кожемякин видел всё это из амбара, сначала ему не хотелось вмешиваться, но когда Боря крикнул, он испугался и отвёл его в кухню. Явилась мать, на этот раз взволнованная, и, промывая руку, стала журить сына, а он сконфуженно оправдывался:
– Да мне не больно же, только испугался я!



