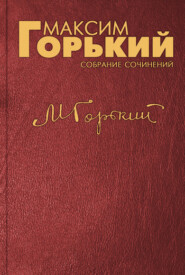 Полная версия
Полная версияЖизнь Матвея Кожемякина
Но уже взрослые разгорячились и не могут вести бой правильно; против каждого из сильных людей слободы – пятеро-шестеро горожан; бой кончен, началась драка – люди вспомнили взаимные обиды и насмешки, старую зависть, давние ссоры, вспомнили всё тёмное, накопленное измала друг против друга, освирепели и бьются злобно, как зверьё.
– Отдай, наши, отдай! – кричат рассеянные слобожане, не успевая собраться в ряд; их разбивают на мелкие кучки и дружно гонят по узким улицам слободы, в поле, в сугробы рыхлого снега.
Возвращаясь домой, победители орут на улицах слободы похабные песни о зареченских девицах и женщинах, плюют в стёкла окон, отворяют ворота; встретив баб и девушек, говорят им мерзости.
Кожемякин видит, как всё, что было цветисто и красиво, – ловкость, сила, удаль, пренебрежение к боли, меткие удары, острые слова, жаркое, ярое веселье – всё это слиняло, погасло, исчезло, и отовсюду, злою струёй, пробивается тёмная вражда чужих друг другу людей, – та же непонятная вражда, которая в базарные дни разгоралась на Торговой площади между мужиками и мещанами.
Часто бывало, что та или другая сторона, отбив от стенки противников заранее намеченного бойца, обыскивала его и, находя в рукавице свинчатку, гирьку или пару медных пятаков, нещадно избивала пинками нарушителя боевых законов.
Когда оба ряда бойцов сшибались в последний раз, оспаривая победу, и в тесной куче ломали рёбра друг другу, издавая рёв, вой и свирепые крики, у Матвея замирало сердце, теснимое чувством отчуждения от этих людей.
Иногда же он, ясно ощущая своё одиночество, наполнялся тоскливою завистью и, слыша хриплые, но удалые крики, чувствовал злое желание броситься в свалку и безжалостно бить всех, пока хватит сил.
Ему пришлось драться: он шёл домой, обгоняемый усталыми бойцами города, смотрел, как они щупают пальцами расшатанные зубы и опухоли под глазами, слышал, как покрякивают люди, пробуя гибкость ноющих рёбер, стараются выкашлять боль из грудей и всё плюют на дорогу красными плевками.
На Поречной нагнали трое парней, и один, схватив его сзади за плечо, удивлённо протянул:
– Это какой человек?
– Кожемякин.
– Кож-жемякин? Какой такой Кожемякин?
Другой парень, хихикая, пояснил:
– Савельев сын.
– Савелья? Какого такого Савелья?
– Отстань! – угрюмо сказал Матвей, узнав по голосам, что его остановили Маклаков, Хряпов и Кулугуров.
– Савельев сын? – продолжал Хряпов. – А может, ты – сукин сын, а?
Этот парень всегда вызывал у Кожемякина презрение своей жестокостью и озорством; его ругательство опалило юношу гневом, он поднял ногу, с размаху ударил озорника в живот и, видя, что он, охнув, присел, молча пошёл прочь. Но Кулугуров и Маклаков бросились на него сзади, ударами по уху свалили на снег и стали топтать ногами, приговаривая:
– Ты ного-ой, – ты в брюхо-о?
Матвей запутался в тулупе, не мог встать, – они били его долго, стараясь разбить лицо. Он пришёл домой оборванный, в крови, ссадинах, с подбитыми глазами, и, умываясь в кухне, слышал жалобный вопль Натальи:
– Ба-атюшки! Вот так избили! Кто это?
Матвей не отвечал, и тогда Пушкарь с гордостью объяснил:
– Наши, конечно, слободские! Он – городской, стало быть, они его и били! Ну, вот, брат, и был ты в первом сражении – это хорошо! Эх, как я, будучи парнишкой, бои любил!..
Матвей перестал ходить на реку и старался обегать городскую площадь, зная, что при встрече с Хряповым и товарищами его он снова неизбежно будет драться. Иногда, перед тем как лечь спать, он опускался на колени и, свесив руки вдоль тела, наклонив голову – так стояла Палага в памятный день перед отцом – шептал все молитвы и псалмы, какие знал. В ответ им мигала лампада, освещая лик богоматери, как всегда задумчивый и печальный. Молитва утомляла юношу и этим успокаивала его.
…В монастыре появилась новая клирошанка, – высокая, тонкая, как берёзка, она напоминала своим покорным взглядом Палагу, – глаза её однажды остановились на лице юноши и сразу поработили его. Рот её – маленький и яркий – тоже напоминал Палагу, а когда она высоким светлым голосом пела: «Господи помилуй…» – Матвею казалось, что это она для него просит милости, он вспоминал мать свою, которая, жалеючи всех людей, ушла в глухие леса молиться за них и, может быть, умерла уже, истощённая молитвой.
В чёрной шлычке[6] и шерстяной ряске, клирошанка была похожа на маленькую колоколенку, задушевным серебряным звоном зовущую людей к миру, к жизни тихой и любовной. И стояла она впереди всех на клиросе, как на воздухе, благолепно окружённая мерцанием огней и прозрачным дымом ладана. Окованные серебром риз, озарённые тихими огнями, суровые лики икон смотрели на неё с иконостаса так же внимательно и неотрывно, как Матвей смотрел.
Клирошанка, видел он, замечала этот взгляд, прикованный к её глазам, и, выпрямляя тонкое тело, словно стремилась подняться выше, а голос её звучал всё более громко и сладко, словно желая укрепить чью-то маленькую, как подснежник юную, надежду.
Странные мечты вызывало у Матвея её бледное лицо и тело, непроницаемо одетое чёрной одеждой: ему казалось, что однажды женщина сбросит с плеч своих всё тёмное и явится перед людьми прекрасная и чистая, как белая лебедь сказки, явится и, простирая людям крепкие руки, скажет голосом Василисы Премудрой:
«Я мать всего сущего!»
Тогда всем станет стыдно пред нею, стыдно до слёз покаяния, и все, поклонясь мудрой красоте её, обновят жизнь светлой силою любви.
Он не спрашивал, откуда явилась клирошанка, кто она, точно боялся узнать что-то ненужное. И когда монастырская привратница, добрая старушка Таисия, ласково улыбаясь, спросила его: «Слушаешь новую-то клирошанку?» – он, поклонясь ей, торопливо отошёл, говоря:
– Хороший голос. Прощайте!
Вдруг клирошанка исчезла: не было её за всенощной, за утренней, и в обедню не было.
«Может, захворала?» – тоскливо подумал он.
Но вечером в день благовещения он услыхал, что Наталья, которой известно было всё в жизни города, рассказывает торжественно и подробно:
– Богачи они, Чернозубовы эти, по всему Гнилищенскому уезду первые; плоты гоняют, беляны[7], лесопил у них свой. Ну, вот, судари вы мои, как заметил свёкор-то, что и младший его сын на неё метит, на Катерину эту, отправил он её в монастырь наш для сохранности. Тут вернулся жених, а он – кривой, мальчишком будучи, сыча ловил, а сыч глаз-от ему и выклюнь. «Где Катерина?» А у отца, старого лешего, своя думка: дескать, стал её брат твой одолевать непосильно. «Егор?» – «Он самый!» А кривого зовут – Левон. Вот и пошёл этот Левон на лесопильню, да братца-то – колом, да и угоди, на грех, по виску, – тот сразу душеньку свою богу и воротил! Вот, значит, полиция, вот – чиновники-те! И взяли её, Катерину-то, на допрос, увезли со стражей…
– Это новая клирошанка, про неё ты? – спросил Матвей тихонько.
– Про неё про самую! И есть, милые мои, слушок, будто не без греха она тут: путалась будто с наречённым-то свёкром. Сирота, по сиротству всё может быть…
Матвей стоял в двери, держась за косяки, точно распятый, и бормотал:
– Это ты врёшь, – всё врёшь!
Наталья стала горячо доказывать ему свою правоту, но он ушёл к себе, встал перед окном, и ему казалось, что отовсюду поднимается душная муть, – точно вновь воскресла осень, – поднимается густым облаком и, закрывая светлое пятно окна, гасит блеск юного дня весны.
В первый день пасхи он пошёл на кладбище христосоваться с Палагою и отцом. С тихой радостью увидел, что его посадки принялись: тонкие сучья берёз были густо унизаны почками, на концах лап сосны дрожали жёлтые свечи, сверкая на солнце золотыми каплями смолы. С дёрна могилы робко смотрели в небо бледно-лиловые подснежники, качались атласные звёзды первоцвета, и уже набухал жёлтый венец одуванчика.
Между крестами молча ходили люди. Кожемякин издали увидал лохматую голову Ключарева; певчий без шапки сидел на чьей-то могиле и тихонько тонким прутом раскачивал стебель цветка, точно заставляя его кланяться солнцу и земле.
Похристосовались. Черный человек невнятно сказал что-то о ранней весне.
– У тебя кто тут? – спросил Матвей, кивая на могилу.
Ключарев постучал о землю ногой и ответил:
– Никого нет.
И, оглянувшись, предложил:
– Пойдём. Сыро здесь.
От крестов на дорожку падали лёгкие тени, молодая зелень травы темнела под ними.
– Скучаешь? – спросил певчий, скосив глаза вбок.
– Н-нет! – не сразу и не твёрдо ответил Кожемякин.
– Шакир – он верно говорит! – продолжал чёрный мужчина. – Скучающий мы народ, русские-то. И от скуки выдумываем разное. Особенно – здесь…
– Да ведь и Шакир здешний!
Ключарев надвинул картуз на нос и проговорил:
– Они с Пушкарёвым – особенные! В бога твёрдо верят, например…
Матвей удивлённо отшатнулся от него.
– А ты разве не веришь?
– Я не про себя говорю, а вообще, – неохотно сказал певчий.
Матвей строго заметил:
– Как это – вообще?
– Так уж! – зевнув, отозвался Ключарев. Но, оглянувшись вокруг, заговорил таинственно и ворчливо:– Не знаю я, как это сказать, ну однако погляди: бог, Исус Христос, а тут же судьба! Бог – так уж никакой судьбы нет! Ничего нет, просто – бог! Везде он, и всё от него. А у нас – бог, судьба, да сатана ещё, черти, домовые, водяной… Лешие потом. В болотах кикиморы. И всему клиру вера есть. Ничего нельзя понять: что божие, и что от судьбы исходит? Наш Никольский поп превосходно в домового верит, я те побожусь в этом! И в судьбу твёрдо верит: такая – говорит мне – твоя судьба, Яким! Ничего, говорит, не поделаешь! Я говорю – какая же судьба, если бог? Смеётся: это-де слово одно – судьба…
Он широко повёл рукой в воздухе и сказал, словно угрожая кому-то:
– Знаю я, какое это слово! Это не слово, нет!..
Матвей вспомнил ту покорность, с которою люди говорят о судьбе, бесчисленные поговорки в честь её, ему не хотелось, чтобы пожарный говорил об этом, он простился с ним.
А через несколько дней после этого певчий вдруг спросил Кожемякина, равнодушно и тупо:
– Ты к девкам ходишь?
– Нет! – покраснев, ответил Матвей.
– Отчего?
– Не с кем, – смущённо сказал Матвей, подумав.
– А-а! – протянул певчий таким тоном, как будто находил причину воздержания юноши вполне достаточной, и тотчас же предложил:
– Пойдём со мной. Со мной – не бойся. Завтра и пойдём, сегодня суббота, грех, а завтра…
Матвей посмотрел на его деревянное лицо и подумал:
«Пойду я, что ли? Как быка, поведут. Какой он несуразный! То про судьбу, то, вдруг, про это. Да сны его ещё».
Было обидно думать об этом, но стыда он не чувствовал. Воздержание давалось ему всё с большим трудом, и за последнее время, видя Наталью, он представлял её себе в ту тяжёлую ночь, когда она вошла к нему в комнату, посланная Палагой.
Воспоминание о Палаге всё слабее мешало думать о других женщинах, и часто эти думы бывали мучительны.
На другой день вечером он сидел в маленькой комнатке одной из слободских хибарок, безуспешно стараясь скрыть неодолимое волнение, охватившее его. Перед ним на столе стоял самовар и, то съёживаясь, то разбухая, злорадно шипел:
– И-и-и…
И показывал Матвею жёлтое, искажённое и плачевное лицо, с прикрытыми трусливо глазами. Скрипели половицы, скрипели козловые башмаки девушки, – она бегала по комнате так быстро, что Матвей видел только тёмную косу, белые плечи и розовую юбку.
Ключарёв густым голосом убеждал его:
– Ты – выпей! Тут – надо выпить.
Он уже был пьян, держал на коленях у себя большую бабу и кричал:
– Дуняша! Угощай его!
– Да они не пьют никак!
– Старайся!
Потом он исчез, точно суетливая Дуняша вдруг вымела его из комнаты шумящим подолом своей юбки. Улыбаясь, она села рядом с Матвеем и спросила его:
– Можно тебя обнять?
– Можно, – бормотал он, не глядя на неё. – Можно!
Она обняла, заглянула в лицо ему пустыми глазами и удивлённо спросила:
– Что ж ты не весёлый?
Матвей подвинулся к ней, бессвязно говоря:
– Боязно как-то, – я тебя в первый раз вижу.
Она беспечно засмеялась:
– Да ведь и я тебя впервой!
С этого дня Ключарёв стал равнодушно водить Матвея по всем вязким мытарствам окуровской жизни, спокойно брал у него деньги, получив, пренебрежительно рассматривал их на свет или подкидывал на ладони и затем опускал в карман.
Он не попрошайничал и не требовал, а именно брал, как нечто бесспорно должное ему, но делал это так часто, что Матвей не однажды замечал:
– Больно много ты берёшь! Пушкарь вон ворчит на меня…
– Плюнь! Всё равно! – отвечал Ключарев и дарил девицам платки, щедро угощал орехами, пряниками и наливками.
«Всё равно!» – тупым эхом отдавалось в груди юноши, и покорно, точно связанный, он шёл за пожарным всюду, куда тот звал его.
Кожемякин замечал, что пожарный становился всё молчаливее, пил и не пьянел, лицо вытягивалось, глаза выцветали, он стал ходить медленно, задевая ногами землю и спотыкаясь, как будто тень его сгустилась, отяжелела и человеку уже не по силам влачить её за собою.
Наталья встречала его угрюмо. Шакир, завидев чёрную бороду певчего, крепко сжимал губы и куда-то не спеша уходил. Пушкарь рычал на него:
– Опять явился! Смутьян, бес…
– Нездоровится тебе, Макарыч? – спрашивал Матвей, чувствуя, что этому человеку тяжко.
Пожарный посмотрел вдаль мутным взглядом и в два удара сказал окуровское словцо:
– Скушно.
Юноша вспоминал отца, который тоже умел сказать это слово – круглое, тяжкое и ёмкое так, что земля точно вздрагивала от обиды.
Однажды, гуляя с Матвеем в поле, за монастырём, Ключарёв как будто немного оживился и рассказал один из своих серых снов.
– И вот, вижу я – море! – вытаращив глаза и широко разводя руками, гудел он. – Океан! В одном месте – гора, прямо под облака. Я тут, в полугоре, притулился и сижу с ружьём, будто на охоте. Вдруг подходит ко мне некое человечище, как бы без лица, в лохмотье одето, плачет и говорит: гора эта – мои грехи, а сатане – трон! Упёрся плечом в гору, наддал и опрокинул её. Ну, и я полетел!
– Проснулся?
Ключарев не ответил. Приставив ладонь ко лбу, он смотрел на дальние холмы, вытянув шею и широко расставив ноги.
На другой день рано утром по городу закричали, что в огороде полиции кто-то «самоубийством застрелился из ружья».
Ключарёв прервал свои сны за пожарным сараем, под старой уродливой ветлой. Он нагнул толстый сук, опутав его верёвкой, привязал к нему ружьё, бечёвку от собачки курка накрутил себе на палец и выстрелил в рот. Ему сорвало череп: вокруг длинного тела лежали куски костей, обросшие чёрными волосами, на стене сарая, точно спелые ягоды, застыли багровые пятна крови, серые хлопья мозга пристали ко мшистым доскам.
Суетилась строгая окуровская полиция, заставляя горбатого Самсона собирать осколки костей; картузник едва держался на ногах с похмелья, вставал на четвереньки, поднимая горб к небу, складывал кости в лукошко и после каждого куска помахивал рукой в воздухе, точно он пальцы себе ожёг.
– Это кто же? – испуганно спрашивали друг друга окуровцы.
– Господи, да пожарный же!
– Ещё у Николы пел!
– Известное лицо.
– Да ведь головы-то нету, ну, и…
Люди с Торговой площади солидно говорили:
– Мастеровой народ – он уж всегда как-нибудь…
– Разве он мастеровой?
– Ну, пожарный, всё равно!
– Мастеровой совсем другое дело! Он в праздник эдак не решится. Он – по вторникам.
– Верно. В понедельник-то он ещё пьёт.
– И потом, мастеровые – они больше вешаются.
Большинство молчало, пристально глядя на землю, обрызганную кровью и мозгом, в широкую спину трупа и в лицо беседовавших людей. Казалось, что некоторые усиленно стараются навсегда запомнить все черты смерти и все речи, вызванные ею.
Кто-то озабоченно и боязливо спросил:
– Где же его закопают?
– Где подобные закопаны? Там и его.
– Я потому, что как он на клиросе пел…
– Пение не оправдывает…
Маленький старичок Хряпов говорил:
– На моём веку семнадцатая душа эдак-то гибнет.
И перечислял по пальцам удавленников, опойц, замёрзших и утонувших пьяниц.
А Базунов, стоя без шапки и встряхивая седыми кудрями, громко говорил, точно псалтырь читал:
– Егда же несть в сердце человеческом страха божия – и человека не бе, но скот бесполезный попирает землю!
Был август, на ветле блестело много жёлтых листьев, два из них, узенькие и острые, легли на спину Ключарева. Над городом давно поднялось солнце, но здесь, в сыром углу огорода, земля была покрыта седыми каплями росы и чёрной, холодной тенью сарая.
– Айда-ко домой! – сказал Пушкарь, толкнув Матвея плечом.
Пошли. Улица зыбко качалась под ногами, пёстрые дома как будто подпрыгивали и приседали, в окнах блестели гримасы испуга, недоумения и лицемерной кротости. В светлой, чуткой тишине утра тревожно звучал укоризненный голос Шакира:
– Оттова, что выдумала русска…
– Много ты понимаешь, – ворчал Пушкарь.
– Моя – понимаит. Мине – жалка. Ну, зачем нарочна выдумыват разные слова-та? Самы страшны слова, какой есть, – ай-яй, нехоруша дела! Сам боится, другой всё пугаит…
– Молчи!
– Зачем молчить? – упрямо и ласково говорил татарин. – Оттова русска скучна живёт выдумыват! Работа мала. Нарочно выбираит ваша русска, котора дума тяжела-та! Работа не любит он никакой…
– Отстань, бес…
С неделю времени Матвей не выходил из дома, чувствуя себя оглушённым, как будто этот выстрел раздался в его груди, встряхнув в ней всё тревожное и неясное, что почти сложилось там в равнодушие человека, побеждённого жизнью без битвы с нею. Впечатления механически, силою тяжести своей, слагались в душе помимо воли в прочную и вязкую массу, вызывая печальное ощущение бессилия, – в ней легко и быстро гасла каждая мысль, которая пыталась что-то оспорить, чем-то помешать этому процессу поглощения человека жизнью, страшной своим однообразием, нищетою своих желаний и намерений, – нудной и горестной окуровской жизнью.
Чтобы разорвать прочные петли безысходной скуки, которая сначала раздражает человека, будя в нём зверя, потом, тихонько умертвив душу его, превращает в тупого скота, чтобы не задохнуться в тугих сетях города Окурова, потребно непрерывное напряжение всей силы духа, необходима устойчивая вера в человеческий разум. Но её даёт только причащение к великой жизни мира, и нужно, чтобы, как звёзды в небе, человеку всегда были ясно видимы огни всех надежд и желаний, неугасимо пылающие на земле.
Из Окурова не видно таких огней.
…Медленно и скучно прошла зима. Весною Кожемякина снова ударило горе. Раз прибежала Наталья, тревожно крича:
– Иди-ка, Матвей Савельич, чего-то Пушкарёв притомился у нас!
Солдат сидел в двери амбара на большом клубке отшлихтованного каната и, упираясь руками в полотнище плевал на землю кровью, приговаривая:
– Хм-на! Как будто того, – Матвей… проштрафился я… н-на… в грудях чего-то, что ли…
Рабочие, стоя сзади него, лениво попрекали:
– Надо тебе было экую тягу ворочать…
– Пошли прочь! – слабо сказал солдат, вытирая ладонью кровь с губ. – Текёт, скажи на милость…
Попробовав встать на ноги, он пошатнулся, едва не упал и, сконфуженно качая головою, пробормотал:
– На-ка! Пил – назад с год, а похмелье – вот…
Когда его подняли, канат оказался облит кровью и одежда его влажною. В кухне, перекрестясь на образа, он вытянулся на лавке, приказав рабочим:
– Ну, пошли отсюда! Стряпка – принеси-ка мне лёду, я поглотаю малость.
И, оставшись с глазу на глаз с Матвеем, строго заговорил, глядя в тёмное чело печи:
– Это крышка мне! Теперь – держись татарина, он всё понимает, Шакирка! Я те говорю: во зверях – собаки, в людях – татаре – самое надёжное! Береги его, прибавь ему… Ох, молод ты больно! Я было думал – ещё годов с пяток побегаю, – ан – нет, – вот она!
Он наморщил брови и замигал глазами. С лавки на пол тяжко падали капли крови. Наталья принесла лёд и встала у двери, пригорюнясь.
– Ну, – чего тебе? Иди, иди, – ишь ты!
И, когда она ушла, хозяйственно сказал:
– Ты её не тронь, она – ничего баба! Шакир её вышколил. С бабами – осторожно! Шутки шутками, а бабы своей цены стоят! Жениться захочешь, гляди невест в слободе у нас, наши хоть и нищие, голодные, а умнее здешних, – это верно!
Он устало завёл глаза. Лицо его морщилось и чернело, словно он обугливался, сжигаемый невидимым огнём. Крючковатые пальцы шевелились, лёжа на колене Матвея, – их движения вводили в тело юноши холодные уколы страха.
– В голове шум, – говорил Пушкарев, – словно тараканы шуршат, н-на… Жениться не торопись: от судьбы и на четвереньках не уйдёшь…
Матвею хотелось утешать его, но стыдно было говорить неправду перед этим человеком. Юноша тяжко молчал.
– Как помру, – сипло и вяло говорил Пушкарь, – позови цирульника, побрил бы меня! Поминок – не делай, не любишь ты нищих. Конечно – дармоеды. Ты вот что: останутся у меня племянники – Саватейка с Зосимой – ты им помоги когда!
– Ладно, – с трудом сказал Матвей.
– Больно-то добр не будь – сожрут до костей! Оденьте в мундир меня, – как надо! Ты не реви…
– Жалко тебя! – всхлипывая, сказал Матвей.
– Ничего, – сипел Пушкарёв, не открывая глаз. – Мне тоже жалко умирать-то… Про мундир не забудь, – в порядке чтобы мне! Государь Николай Павлыча, может быть, стречу…
Он вдруг как будто вспыхнул и отчётливо выговорил:
– Семьдесят два года беспорочно служил, – везде дела честно вёл… это у господа записано! Он, батюшка, превыше царей справедливостью…
Легонько оттолкнув Матвея, он снова ослабел.
– Что же попа-то нет? Плохо мне, – иди-ка, пошли Шакира… скорее!
Матвей выбежал в сени, – в углу стоял татарин, закрыв лицо руками, и бормотал. По двору металась Наталья, из её бестолковых криков Матвей узнал, что лекарь спит, пьяный, и его не могут разбудить, никольский поп уехал на мельницу, сомов ловить, а варваринский болен – пчёлы его искусали так, что глаза не глядят.
Юноша стоял на крыльце и, видя сквозь открытые двери амбара серые нити, скучно вытянутые по пустырю, думал:
«Теперь мне около этого ходить…»
Ему хотелось идти к Пушкарю, окно кухни было открыто, он слышал шёпот солдата и короткие, ноющие восклицания Шакира:
– Будь покойна, бачка! Моя – верна – ахх!
Потом татарин высунул из окна голову, крикнув:
– Касяйн!
Солдат ещё более обуглился, седые волосы на щеках и подбородке торчали, как иглы ежа, и лицо стало сумрачно строгим. Едва мерцали маленькие глаза, залитые смертною слезою, пальцы правой руки, сложенные в крестное знамение, неподвижно легли на сердце.
– Не слышит! – говорил Шакир, передвигая тюбетейку с уха на ухо. – Не двигаит рука…
– Матвей, ты здесь? – спросил солдат. – Пальцы мне… сложи крестом…
– Я сложил, – сказал Шакир.
– Руки на груди… Что же вы попа-то… беси…
По полу медленно, тёмной лентой текла кровь.
«В подпечек нальётся, будет пахнуть», – вздрогнув, подумал Матвей.
Челюсть солдата отваливалась, а губы его всё ещё шелестели, чуть слышно выговаривая последние слова:
– В руце твои… Саватейку с Зосимой не забудь… Матвей… Прощай… Шакир-то здесь?..
– Тута, бачка, тута!
Татарин стоял и, глядя на свои ладони, тоже шептал что-то, как бы читая невидимую книгу.
– Скажи дяде, Рахметулле… Спасибо ему за дружбу! Ежели что неладно – зови его… Матвей… Рахметулла – всё может, герой… Благодарствую за дружбу… скажи…
Пришёл высокий и седой монастырский батюшка, взглянул на умирающего и ласково сказал:
– Нуте-с, оставьте нас…
– Ух какой! – тихонько говорил татарин Матвею, сидя с ним на завалинке. – Сколько есть кровь-та, – до последний капля жил…
– Жалко мне его, – сердечно отозвался Матвей, – так жалко! Отца я не жалел эдак-то…
– Я ему мальчишкам знал-та… теперь такой большой татарин – вот плачит! Он моя коленкам диржал, трубам играл, барабанам бил – бульша двасать лет прошёл! Абзей моя, Рахметулла говорил: ты русска, крепка сердца твоя – татарска сердца, кругла голова татарска голова – верна! Один бог!
Матвей взглянул на дворника и с лёгкой обидой спросил:
– Не любите вы русских-то?
– Хоруша – все любит, нехоруша – никакой не любит, – татар прямой! Это – русска никого не любит, ни хоруша, ни плохой – врать любит русска! Пушкарь – прямой, ух! Наша народ простая, она прямой любит…
Татарин говорил долго, но Кожемякин не слушал его, – из окна доносился тихий голос священника, читавшего отходную. На крыше бубновского дома сидели нахохлившись вороны, греясь на солнце.
Потом поп вышел на крыльцо, говоря хозяйственно:
– Нуте-с, пожалуйте проститься с отходящим в путь безвозвратный…
Шакир крикнул рабочим; вороны встрепенулись и, наклоняя головы, подозрительно осмотрели двор. Отовсюду в кухню собирался народ, мужики шли, оправляя рубахи, выбирая из бород кострику и сосредоточенно глядя под ноги себе.



