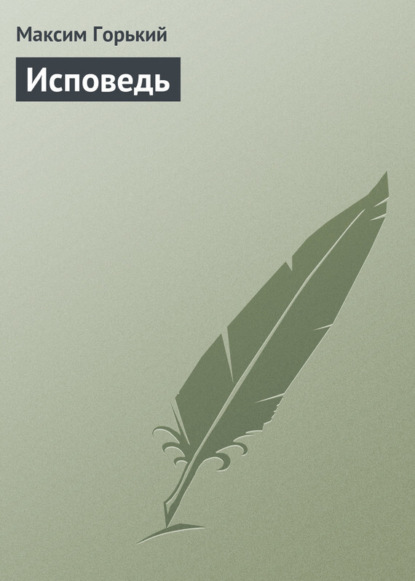 Полная версия
Полная версияИсповедь
Интересно мне слушать этих людей, и удивляют они меня равенством уважения своего друг ко другу; спорят горячо, но не обижают себя ни злобой, ни руганью. Дядя Пётр, бывало, кровью весь нальётся и дрожит, а Михаила понижает голос свой и точно к земле гнёт большого мужика. Состязаются предо мной два человека, и оба они, отрицая бога, полны искренней веры.
«А какова моя вера?» – спрашиваю я себя – и не умею ответить.
Во время жизни с Михайлой думы мои о месте господа среди людей завяли, лишились силы, выпало из них былое упрямство, вытесненное множеством других дум. И на место вопроса: где бог? – встал другой: кто я и зачем? Для того, чтобы бога искать?
Понимаю, что это бессмысленно.
По вечерам к Михайле рабочие приходили, и тогда заводился интересный разговор: учитель говорил им о жизни, обнажая её злые законы, – удивительно хорошо знал он их и показывал ясно. Рабочие – народ молодой, огнём высушенный, в кожу им копоть въелась, лица у всех тёмные, глаза – озабоченные. Все до серьёзного жадны, слушают молча, хмуро; сначала они казались мне невесёлыми и робкими, но потом увидал я, что в жизни эти люди и попеть, и поплясать, и с девицами пошутить горазды.
Разговоры Михайлы и дяди его всегда касались одних предметов: власть денег, унижение рабочих, жадность хозяев, необходимость уничтожить разделение людей на сословия. Но я не рабочий, не хозяин, денег не имею и не ищу – мне эти разговоры душу не задевали. Казалось мне, что слишком большую силу придают люди капиталам и этим унижают себя. Начал я вступать в споры с Михайлой, – доказываю, что сначала человек должен найти духовную родину, тогда он и увидит место своё на земле, тогда найдёт свободу. Говорил я помногу и горячо, рабочие слушали речь мою добродушно и внимательно, как честные судьи, а которые постарше, те даже соглашались со мной.
Но кончу я, – заговорит Михаила со своей спокойной улыбкой – и сотрёт мои слова.
– Прав ты, когда говоришь, что в тайнах живёт человек и не знает, друг или враг ему бог, дух его, но – неправ, утверждая, что, невольники, окованные тяжкими цепями повседневного труда, можем мы освободиться из плена жадности, не разрушив вещественной тюрьмы… Прежде всего должны мы узнать силу ближайшего врага, изучить его хитрости. Для этого необходимо нам найти друг друга, открыть в каждом единое со всеми, и это единое – наша неодолимая, скажу – чудотворная сила! У рабов никогда не было бога, они обоготворяли человеческий закон, извне внушённый им, и вовеки не будет бога у рабов, ибо он возникает в пламени сладкого сознания духовного родства каждого со всеми! Не из дресвы и обломков строятся храмы, но из крепких, цельных камней. Одиночество – суть отломленность твоя от родного целого, знак бессилия духа и слепота его; в целом ты найдёшь бессмертие, в одиночестве же – неизбежное рабство и тьма, безутешная тоска и смерть.
И когда он так говорит, то мне кажется, что глаза его видят вдали великий свет, вовлекает он меня в свой круг, и все забывают обо мне, а на него смотрят радостно.
На первых порах это обижало меня; думал я, что плохо принимают мои мысли и никто не хочет углубиться в них так охотно, как в мысли Михайлы.
Бывало, уйду незаметно от них, сяду где-нибудь в угол и тихонько беседую с гордостью своей.
Подружился я со школьниками; по праздникам окружали они меня и дядю Петра, как воробьи снопы хлеба, он им что-нибудь мастерит, а меня дети расспрашивают о Киеве, Москве, обо всём, что видел. Но часто, бывало, вдруг кто-нибудь из них такое спросит, что я только глазами хлопаю, удивлённый.
Был там Федя Сачков – тихий и серьёзный ребёнок. Однажды иду я с ним лесом, говорю ему о Христе, и вдруг он высказывает, солидно таково:
– Не догадался Христос на всю жизнь маленьким остаться, в моих, примерно, летах! Остался бы так да и жил, обличал бы богатых, помогал бедным – и не распяли бы его, потому – маленький! Пожалели бы! А так, как он сделал, – будто и не было его…
Лет одиннадцать Феде, личико у него было бледное и прозрачное, а глаза недоверчивые.
Другой – Марк Лобов, старшего класса ученик, худой, вихрастый и острый парнишка, был великий озорник и всеобщий гонитель: насвистывает тихонько и щиплет, колотит, толкает ребят, словно молодой подпасок овец. Как-то, вижу я, донимает он одного смирного мальчика, и уже скоро заплачет мальчик.
– Марк, – говорю я, – а если он тебе сдачи даст?
Взглянул на меня этот Марк и, усмехаясь, отвечает:
– Не даст! Он смирный, добрый он…
– Так зачем же ты его обижаешь?
– Да так, – говорит.
И, посвистев, прибавил:
– Смирный он!
– Ну, так что? – спрашиваю.
– А для чего же смирные-то живут?
Сказал он это удивительно спокойно – видимо, человек уже в двенадцать лет уверен был, что смирные люди даны для обид.
Каждый из детей по-своему мудрец, всё больше они занимают меня, всё чаще я думаю о их судьбе. Чем заслужили дети тяжёлую обидную жизнь, которая их ждёт?
Вспоминаю Христю и сына моего, вспоминаю – и возникает в душе злая мысль:
«Не потому ли запрещаете вы женщине свободно родить детей, что боитесь, как бы не родился некто опасный и враждебный вам? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшен вам свободный сын её, не связанный с вами никакими узами? Воспитывая и обучая делу жизни своих детей, вы имеете время и право ослеплять их, но боитесь, что ничей ребёнок, растущий в стороне от надзора вашего, – вырастет непримиримым вам врагом!»
Был на заводе и такой ничей человек – звали его Стёпа, – чёрный, как жук, рябой, без бровей, с прищуренными глазами, ловкий на все руки, весёлый паренёк.
Знакомство наше началось с того, что однажды в праздник подошёл он ко мне и спрашивает:
– Монах! Ты, слышь, незаконный? Ну вот, и я тоже!
И пошёл со мной рядом. Было ему лет пятнадцать, уже школу кончил и на заводе работал. Идёт, прищурив глаза, и расспрашивает:
– Велика земля-то?
Объяснил, как умел.
– А тебе, – мол, – на что?
– Надо! Чего я на одном месте буду торчать? Не дерево. Вот как научусь слесарить – пойду в Россию, в Москву и – ещё куда там? – везде пойду!
Говорит он так, как будто грозится кому-то:
«Я – приду!»
Стал я после этой встречи наблюдать за ним; вижу – мальчика тянет к серьёзному: где Михайловы товарищи ведут свой разговор, там и он трётся, слушает и щурит глаза, как бы прицеливаясь, куда себя направить.
И озорничает особенно: старается что-нибудь испортить тем людям, которые к начальству стоят ближе, – инструмент спрячет, сломает что-нибудь, песку подсыпает в станки.
Однажды, во время обеда, говорит мне:
– Скучно, монах, здесь!
– Почему?
– Не знаю. Жидковато люди живут! Работа да забота! Скорее бы научиться мне – отчалил бы я отсюда прочь!
И когда он говорил о будущем походе своём, то глаза его, открываясь, смело глядели вперёд, а вид он имел завоевателя, который ни во что, кроме своей силы, не верит. Нравилось мне это существо, и в речах его чувствовал я зрелость.
«Этот – не пропадёт!» – думаю, бывало, поглядывая на него. И душа заноет о сынишке моём: каков он, чем будет на земле?
Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и всё более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окутает оно меня и странно приподнимет. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело моё, а я их душа и воля, на этот час. И речь моя – их голос. Бывало, что сам живёшь как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его – хорошо тебе, а минет время, замолкнет он, и – снова ты один, для себя.
Вспоминаю былое единение с богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил и от себя, но как бы вырастал, возвышался над собою, и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за моё одиночество.
Догадка эта пришла ко мне бесплотной и неясной: чувствую, что растёт в душе новое зерно, но понять его не могу; только замечаю, что влечёт меня к людям всё более настойчиво.
В те дни работал я на заводе за сорок копеек подённо, таскал на плечах и возил тачкой разные тяжести – чугун, шлак, кирпич – и ненавидел это адово место со всей его грязью, рёвом, гомоном и мучительной телу жарой.
Вцепился завод в землю, придавил её и, ненасытно алчный, сосёт дни и ночи, задыхаясь от жадности, воет, выплёвывая из раскалённых пастей огненную кровь земли. Остынет она, почернеет, – он снова плавит, гудит, гремит, расплющивая красное железо, брызжет искрами и, весь вздрагивая, тянет длинные живые полосы, словно жилы из тела земного.
Вижу в этой дикой работе нечто страшное, доведённое до безумия. Воющее чудовище, опустошая недра земли, копает пропасть под собой и, зная, что когда-то провалится в неё, озлобленно визжит тысячью голосов:
– Скорей, скорей, скорей!
В огне и громе, в дожде огненных искр работают почерневшие люди, – кажется, что нет им места здесь, ибо всё вокруг грозит испепелить пламенной смертью, задавить тяжким железом; всё оглушает и слепит, сушит кровь нестерпимая жара, а они спокойно делают своё дело, возятся хозяйски уверенно, как черти в аду, ничего не боясь, всё зная.
Ворочают крепкими руками малые рычаги, и всюду – вокруг людей, над головами у них – покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромных машин, пережёвывая железо… Трудно понять, чей ум, чья воля главенствуют здесь! Иной раз кажется, что человек взнуздал завод и правит им, как желает, а иногда видишь, что и люди и весь завод повинуются дьяволу, а он – торжественно и пакостно хохочет, видя бессмыслицу тяжкой возни, руководимой жадностью.
Говорят рабочие друг другу:
– Пора на работу вставать, эй!
Но люди на ней стоят или она их гнетёт и давит – не понимаю! Тяжела работа и властна, но остёр и ловок человеческий разум!
Порою в этом адском шуме и возне машин вдруг победительно и беззаботно вспыхнет весёлая песня, – улыбаюсь я в душе, вспоминая Иванушку-дурачка на ките по дороге в небеса за чудесной жар-птицей.
Народ на заводе – по недугу мне: всё этакие резкие люди, смелые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, бесстрашный народ. Не похож он на странников и холопов земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадёжной печалью, мелкой жуликоватостью в делах с богом и промеж себя.
Эти люди в мыслях дерзкие, и хотя озлоблены каторжным трудом – ссорятся, даже дерутся друг с другом, – но ежели начальство нарушает справедливость, все они встают против его, почти как один.
А те парни, которые к Михайле ходят, всегда впереди, говорят громче всех и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народе не думал, то и людей не замечал, а теперь смотрю на них и всё хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мной отдельно стоял. И добиваюсь этого и – нет: речи разные, и у каждого своё лицо, но вера у всех одна и намерение едино, – не торопясь, но дружно и усердно строят они нечто.
Каждый из них среди людей – светел и приятен, как поляна в густом лесу для заплутавшегося; каждый тянет к себе рабочих, которые посмышлёнее, и все Михайловы ребята в одном плане держатся, образуя на заводе некий духовный круг и костёр светло горящих мыслей.
Сначала – неласково приняли меня, покрикивают, посмеиваются:
– Эй ты, рыжая муха! Священный клоп! Дармоед! Захребетник!
Иной раз и толкнёт кто-нибудь, но этого я терпеть не мог и в таких случаях кулака не жалел. Но хотя людям сила и нравится, а кулаком ни уважения, ни внимания к себе не выколотишь, и быть бы мне сильно битому, если б в одну из моих ссор не вмешался Михайлов дружок Гаврила Костин, молодой литейщик, весьма красивый парень и очень заметный на заводе.
Лезло на меня человек шесть и не добром они грозили бокам моим, но он встал рядом со мной и говорит:
– Зачем же, товарищи, дразнить человека? Разве он не такой же рабочий, как и все мы? Несправедливо действуете, товарищи, и против себя! Наша сила – в тесной дружбе…
Сказал он немного, но как-то особенно хорошо и просто, точно детям говорил: все дружки Михайлы каждым случаем пользовались, чтобы посеять его мысли. Смутил Костин противников моих, да и меня за сердце задел, – начал я тоже речь говорить:
– Я, – мол, – не потому в монахи пошёл, что сытно есть хотел, а потому, что душа голодна! Жил и вижу: везде работа вечная и голод ежедневный, жульничество и разбой, горе и слёзы, зверство и всякая тьма души. Кем же всё это установлено, где наш справедливый и мудрый бог, видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих?
Собралось довольно много народа, слушают серьёзно; кончил я – молчат. Потом старый модельщик Крюков говорит Костину:
– Монах-то, пожалуй, глубже видит, чем ты с товарищами! Он – с корня берёт; видал?
Мне приятно слышать такие слова, а Крюков хлопнул меня по плечу и сказал:
– Ты, брат, говори, – это хорошо! А волосищи-то всё-таки срежь хоть на аршин: грязно с этакой копной, да и людям смешно.
Кто-то, весёлый, кричит:
– И в драке неловко, гляди!
Шутят – значит, злоба погасла. Где смех, там человек; скотина не смеётся.
Костин в сторону отвёл меня.
– Ты, – говорит, – Матвей, с такими словами осторожно, за них в острог сажают, случается!
Удивился я.
– Чего?
– В острог… Знаешь? – Смеётся.
– За что?
– Да вот – за осуждение!
– Шутишь?
– Спроси, – говорит, – Михайлу, а мне надо на работу вставать.
Ушёл. Остался я очень удивлён его словами, не верится мне, но вечером Михайла всё подтвердил. Целый вечер рассказывал он мне о жестоких гонениях людей; оказалось, что за такие речи, как я говорил, и смертью казнили, и тысячи народа костьми легли в Сибири, в каторге, но Иродово избиение не прекращается, и верующие тайно растут.
Тогда в душе моей всё возвысилось и осветилось иначе, все речи Михайловы и товарищей его приняли иной смысл. Прежде всего – если человек за веру свою готов потерять свободу и жизнь, значит – он верует искренно и подобен первомученикам за Христов закон.
Все слова Михайловы соприкоснулись друг другу, расцвели и приобщились душе моей в тот час.
Не хочу сказать, что сразу принял я их и тогда же понял до глубины, но впервые тем вечером почувствовал я их родственную близость моей душе, и показалась мне тогда вся земля Вифлеемом, детской кровью насыщенной. Понятно стало горячее желание богородицы, коя, видя ад, просила Михаила архангела:
– Архангеле! Допусти меня помучиться в огне! Пусть и я разделю великие муки эти!
Только здесь не грешных, а праведников видел я: желают они разрушить ад на земле, чего ради и готовы спокойно приять все муки.
– Может быть, – говорю я Михаиле, – потому и нет теперь святых отшельников, что не от мира, а в мир пошёл человек?
– Истинная вера, – отвечает он, – необходимо является источником деяния!
– Приобщите, – прошу, – и меня к этому делу! Горит во мне всё.
– Нет, – отвечает. – Подождите и подумайте, рано вам! Если вы, с вашим характером, попадёте теперь же в петлю врага, то надолго и бесполезно затянете её. Напротив – после этой вашей речи надо вам уйти отсюда. Есть у вас много нерешённого, и для нашей работы – не свободны вы! Охватила, увлекает вас красота и величие её, но – перед вами развернулась она во всей силе – вы теперь как бы на площади стоите, и виден вам посреди её весь создаваемый храм во всей необъятности и красоте, но он строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общий план, возьмётесь за неё – исчезнут для вас очертания храма, рассеется видение, не укреплённое в душе, и труд покажется вам ниже ваших сил.
– Зачем, – с тоской спрашиваю его, – вы меня гасите? Я себе место нашёл, я – рад видеть себя силой нужной…
А он спокойно и печально говорит:
– Не считаю вас способным жить по плану, не ясному вам; вижу, что ещё не возникло в духе вашем сознание связи его с духом рабочего народа. Вы для меня уже и теперь отточенная трением жизни, выдвинутая вперёд мысль народа, но сами вы не так смотрите на себя; вам ещё кажется, что вы – герой, готовый милостиво подать, от избытка сил, помощь бессильному. Вы нечто особенное, для самого себя существующее; вы для себя – начало и конец, а не продолжение прекрасного и великого бесконечного!
Начинаю я понимать, зачем он пригибает меня к земле, чувствую неясную мне правду в словах его.
– Вам снова, – говорит, – надо тронуться в путь, чтобы новыми глазами видеть жизнь народа. Книгу вы не принимаете, чтение мало вам даёт, вы всё ещё не верите, что в книгах не человеческий разум заключён, а бесконечно разнообразно выражается единое стремление духа народного к свободе; книга не ищет власти над вами, но даёт вам оружие к самоосвобождению, а вы – ещё не умеете взять в руки это оружие!
Верно он говорит: чужда мне была книга в то время. Привыкший к церковному писанию, светскую мысль понимал я с великим трудом, – живое слово давало мне больше, чем печатное. Те же мысли, которые я понимал из книг, – ложились поверх души и быстро исчезали, таяли в огне её. Не отвечали они на главный мой вопрос: каким законам подчиняется бог, чего ради, создав по образу и подобию своему, унижает меня вопреки воле моей, коя есть его же воля?
И рядом с этим – не борясь – другой вопрос живёт: с неба ли на землю нисшёл господь или с земли на небеса вознесён силою людей? И тут же горит мысль о богостроительстве, как вечном деле всего народа.
Разрывается душа моя надвое: хочу оставаться с этими людьми, тянет меня идти проверять новые мысли мои, искать неизвестного, который похитил свободу мою и смутил дух мой.
Дядя Пётр тоже уговаривает:
– Надо тебе, Матвей, уйти на время, а то о речах твоих пошёл опасный разговор…
И скоро всё решилось как бы помимо моей воли: откуда-то с другого завода прискакал ночью верховой и объявил, что у них на заводе жандармы обыски делают и что намерены они сюда явиться.
– Эх, рано! – говорит Михайла, огорчённый.
Началась некоторая суматоха, а дядя Пётр кричит мне:
– Айда, Матвей, айда! Нечего тебе делать здесь, не ты кашу заварил, не присаживайся!
И Михайла настойчиво советует, глядя прямо в лицо мне:
– Лучше вам уйти. Пользы от вашего присутствия мало, а вред может быть!
Понимаю я, что хочется им спровадить меня, и это – обидно. Но в то же время чувствую я, что боюсь жандармов, ещё не вижу, а уже боюсь! Знаю, что нехорошо уходить от людей в час беды, и подчиняюсь их воле.
Вытурили меня. Иду в гору к лесу по зарослям между пней, спотыкаюсь, словно меня за пятки хватают, а сзади молчаливый паренёк Иван Быков спешит, с большой поноской на спине – послан прятать в лесу книги.
Добежали мы с ним до опушки, нашёл он свой тайник, укладывает в него ношу свою. Спокоен. А мне жутко. Спрашиваю его:
– А они сюда не придут?
– Кто их знает! – говорит. – Может, и сюда придут. Надо – скорее!
Парень он неуклюжий, как из дубовой колоды топором вырублен, голова – большая, одно плечо выше другого, руки непомерно длинны, и голос угрюм.
– Ты – боишься? – говорю.
– Чего?
– А что придут и заберут?
– Лишь бы спрятанного не нашли, а то – пускай!
Аккуратно уложил всё в яму, зарыл, заровнял её, набросал сверху хвороста, сел на землю и говорит, видя, что я собираюсь идти:
– Сейчас тебе записку принесут, погоди.
– Какую?
– Не знаю я.
Поглядываю я из-за деревьев в лощину – хрипит завод, словно сильного человека душит кто-то. Кажется, что по улицам посёлка во тьме люди друг за другом гонятся, борются, храпят со зла, один другому кости ломают. А Иван, не торопясь, спускается вниз.
– Ты куда?
– Домой!
– А схватят?
– Я недавно в деле, меня, наверно, не знают, а и схватят – не беда. Из тюрьмы люди умнее выходят.
Вдруг кто-то громко и ясно спросил меня:
– Как же это ты, Матвей, бога не боишься, а жандармов боишься?
Гляжу я на Ивана – стоит он и задумчиво смотрит вниз.
– Ты, – мол, – что сказал?
– В тюрьме – много читают книг…
– Больше ничего?
– А разве этого мало?
Тлеет внутри меня некая ложь, и колючими искрами вспыхивают стыдные вопросы. Ночь прохладная, а мне жарко.
– Я тоже с тобой пойду!
– Не велено тебе! – строго говорит Иван. – Тебя же обязательно заберут, – ведь из-за твоих речей суматоха-то начата!
– Как?
– Поп донёс в Верхотурье.
Сел я на землю, а сам говорю:
– Тогда – надо мне идти!
Но страх мой держит меня.
– Бежит кто-то сюда! – тихо шепчет Иван. Смотрю под гору – вверх по ней тени густо ползут, небо облачно, месяц на ущербе то появится, то исчезнет в облаках, вся земля вокруг движется, и от этого бесшумного движения ещё более тошно и боязно мне. Слежу, как льются по земле потоки теней, покрывая заросли и душу мою чёрными покровами. Мелькает в кустах чья-то голова, прыгая между ветвей, как мяч.
Иван тихонько посвистывает и говорит:
– Это – Костя!
Знаю Костю, – мальчик лет пятнадцати, голубоглазый и беловолосый, слабосильный. Два года тому назад кончил в школе учиться. Михайла готовит его в помощники себе, тоже в учителя.
И понимаю, что нарочно думаю об этом: хочу посторонними мыслями свой стыд и страх заглушить.
Выскочил Костя, запыхался, голос рвётся.
– Приехали! Тебя спрашивают, монах! На… Дядя Пётр велел мне проводить тебя в Лобановский скит, идём!
Встал я, говорю Ивану:
– Прощай, брат, кланяйся всем; скажи, чтобы простили меня!
А Костя толкает и строго командует:
– Ты – иди! Кому кланяться? Всех, наверно, заберут, как курят на базар!
Пошли. Костя впереди идёт, тихонько рассказывая, что он видел там, внизу; я шагаю за ним, и со всех сторон меня дёргает за полы, за рукава, словно спрашивает кто-то:
«Куда? Запутал людей, а сам уходишь?»
Рассуждаю вслух, как бы сам с собой:
– Значит – это за меня люди попали…
Мальчик отвечает:
– Не за тебя, а за правду! Ты разве правда? Ишь, какой хват!
Забавны его слова, и сам он мал, но чем-то задевает меня. Хочется мне оправдать себя пред ним, и начал было я выкладывать мысли мои, как нищий кусочки из сумы.
– Да, – мол, – видно, что великая неправда живёт во мне…
А он ворчит, возражая на каждое слово моё, как совесть:
– Ну уж и великая! Всё бы тебе больше других!
«Это – чужие слова», – думаю я.
– Недаром, – говорит, – Костин тебя колокольней назвал; не такой, которая в своё время к обедне зовёт, а которая звонит сама себе, оттого, что криво строена и колокола на ней плохо привязаны…
Помолчал и вдруг объявляет:
– Не люблю я тебя, монах!
– За что?
– Не знаю… Не русский, что ли, ты? Нехороший…
В другое время я рассердился бы на него, а тут – молчу. И как-то обессилел вдруг, устал до смерти.
Ночь вокруг и лес. Между деревьев густо налилась сырая тьма и застыла, и не видно, что – дерево, что – ночь. Блеснёт сверху лунный луч, переломится во плоти тьмы – и исчезнет. Тихо. Только под ногами ветки хрустят и поскрипывает сухая хвоя.
Не боится мальчик правду сказать. Все люди этой линии, начиная с Ионы, не носят страха в себе. У одних много гнева, другие – всегда веселы; больше всего среди них скромно-спокойных людей, которые как бы стыдятся показать доброе своё.
А Костя шагает по тропе, тихо светит мне его белая голова. Вспоминаю житие отрока Варфоломея, Алексея божия человека и других. Не то… Думы мои, словно кулики по болоту, с кочки на кочку прыгают.
Спрашиваю мальчика:
– Ты читал жития святых?
– Маленький был – читал. Мать заставляла. А что?
– Нравятся тебе божий угодники?
– Не знаю… Пантелеймон – нравится, Егорий тоже. Со змием дрался. Не знаю я – какая людям радость, коли десятеро из них святы стали?
Растёт Костя на моих глазах.
– Ежели, – говорит, – царская или богатого дочь во Христа поверит, да замучают её – ведь ни царь, ни богач добрее к людям от этого не бывали. В житиях не сказано, что исправлялись цари-то, мучители!
Потом, помолчав, говорит:
– Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришёл он горе победить, а вышло…
Подумал и добавил:
– Ничего и не вышло!
Обнять захотелось мне его: жалко Костю, и Христа жалко, и тех людей, что остались в посёлке, – весь человеческий мир. И себя. Где моё место? Куда иду?
Редеет тьма короткой летней ночи, сквозь ветви сосен ручьями льётся сверху тихий свет.
– Ты не устал, Костя?
– Я? – говорит мальчик бодро. – Нет. Я люблю ночью ходить, будто сквозь её проходишь, как особенную страну.



