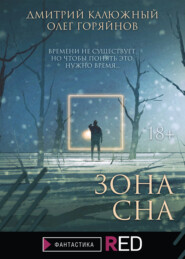скачать книгу бесплатно
Станиславский отдыхает, подумал Стас.
В освещённый круг внесли белого козлёнка. Князь вынул нож из-за пояса. В речи, с которой он затем обратился к идолу, Стас отчасти понял только её начало, где Ондрий благодарил некого Сусе-бога за удачу в военном походе. Затем Стасу довелось отведать сырой печени принесённого в жертву козлёнка.
– Вкуси-ко, сыне! – молвил князь, протягивая ему ритуальную пищу на конце своего ножа. – Се плоть Сусе-бога. Приобщись!
Плоть божества была жёсткой и горькой на вкус. Стас проглотил кусок, который отчекрыжил ему князь, стараясь не морщиться, подавил рвотный позыв и уже без всякого сопротивления, а даже, напротив, с облегчением принял чашу с кислой брагой, которую ему, как и следовало ожидать, позиционировали в качестве «крови Сусе».
За долгие пять лет жизни в этом лесном краю Стас так и не определил, в каком он веке; его вопросов просто не понимали. Коней у местных жителей не было. Как показало проведённое им расследование, кроме князя и нескольких дружинников, этого зверя, коня, никто и в глаза никогда не видел. Соху таскали быки, а то и бабы. Колеса не знали совсем. Никаких письмён или книг здесь не водилось. Князь-то, видно, побывал в разных городах и в интеллектуальном отношении возвышался над своими соотечественниками на голову и выше. Интересы остальных дальше удовлетворения естественных потребностей и несложной работы, не требующей особых умственных усилий, не распространялись.
Некоторое недоразумение произошло с определением личного статуса. Стас полагал, что «десятский» – это такое воинское звание, вроде поручика, и что, раз оно ему присвоено, он на военной службе, и жизнь его теперь будет подчинена строгому воинскому регламенту, и будет состоять из учений и войн. То есть жизнь военного со всеми атрибутами: с одной стороны, тяготы и лишения, с другой – оклад жалования и заслуженный отпуск. Ничуть не бывало: на той же неделе князь Ондрий уплыл куда-то в лодке с пятёркой ребят и пленным Лопотарём, и вернулся только месяца через три.
В его отсутствие делами управлял мир, во главе которого стоял Бачега, угрюмый, лет этак сорока пяти – возраст в контексте времени почти преклонный – тип, длинный и тощий, объяснявшийся не столько словами, сколько жестами. К новому десятскому он относился спокойно и уважительно. Отсыпал ему из княжеских кладовых зерна, сушёного мяса, каких-то кореньев и соли.
Стас же, как и все остальные дружинники, вместе со смердами занимался выжиганием леса под новые пахотные угодья, а у дома развёл огородик. Он с головой окунулся в привычный хрестьянский быт, и кто бы возражал против этого, но уж никак не он.
После месяца работы в лесу Стас подошёл к Бачеге и объяснил, что неплохо бы ему как-то обустроить жилище к зиме. Бачега кивнул, выдал ему топор и прислал двух смердов – помочь привезти брёвна из лесу. Вскоре Стас срубил себе какую-никакую избёнку прямо над полуземлянкой, выделенной ему князем. Крышу покрыл дранкой, чем вызвал немалое удивление среди горожан – те только цокали языками, осматривая сооружение. Но он потряс их ещё больше, когда, замучившись глотать дым и смывать с лица сажу, налепил из глины кирпичей, кое-как обжёг их и сложил в доме печку с трубой наружу.
Весь город приходил смотреть, но ни один не последовал его примеру. Топили по-чёрному, а крыши крыли соломой или сушёным камышом. Да и кирпичи, которые у него получились, говоря по правде… м-мм… не вызывали желания немедленно перенимать опыт.
Только зимой он сообразил, в чём тут дело: его архитектурные новшества обошлись большей, чем у соседей, потребностью в дровах. Впрочем, по ночам его грела полонянка, столь искушённая в искусстве нежной страсти, что можно было подумать, будто она лет десять стажировалась в лучших борделях Европы. По-русски говорить она так и не выучилась, но почти всё, сказанное ей Стасом, понимала. Зато без всяких затруднений щебетала с соседками; Стас обнаружил, что определить этническую принадлежность почти половины здешних баб совершенно невозможно. Его новая жена, как и они, русской, или даже славянкой точно не была; не помогало никакое эсперанто.
Зато голос у неё был сказочный; бывало, как запоёт, так изо всех концов леса бабы подпевать начинают. А что поёт, о чём поёт – Бог весть.
Он научил её собирать грибы, отличая дурные от хороших. А в травах и ягодах она сама разбиралась.
Её имени он так и не смог выяснить, звал её Киса. Был у него соблазн дать ей привычное имя Алёна, однако что-то в душе его против этого восстало. Опять же, в Алёну крестить надо – а кто же будет её тут крестить, и по какому обряду? Даже кому молились, понять невозможно: «сусе», «сусе», – а тот ли это «сусе»?.. Евангелий здесь не знали. Баба-шаман ещё, с бубном. Никого не крестили, молодожёны не венчались; все обходились без имён – одни прозвища. Его самого звали просто Кнетом.
Однажды, в первый ещё год, он попытался привести местный культ в соответствие с теми представлениями, которые сам имел о православии. Народ выслушал его, и молча разошёлся. А потом пришли причастные к культу лица, и максимально вежливо (связываться с десятским, – да к тому же Стас в этом сне оказался чрезвычайно большого роста и массы, – никто бы не рискнул) объяснили: мы, де, не берёмся указывать тебе, как драться, а ты не лезь в наши дела.
Он прожил у князя Ондрия пять трудных лет и умер в чумную пору. Никаких особо дальних походов на его долю не выпало – князь предпочитал оставлять его за себя во граде, когда сам куда-либо уезжал, или шёл воевать совместно с другими князьями под водительством боярина Оглана. Очень он ему доверял. А может, не хотел выводить Стаса «в свет» из опасения, что Оглан отнимет у него такого хорошего кнета, оставит его себе. В любом случае, Стас не роптал: такая жизнь, да ещё с Кисой, к которой он искренне привязался, ему нравилась.
В тех же случаях, когда князь брал Стаса с собою, приходилось им воевать с такими же точно бородачами, говорящими на таком же точно, как и они, языке – неважно, на каком расстоянии жили эти враги, в трёх днях, или в трёх неделях пути от их града. А бывало, и до них добирались неведомо кто, и приходилось махать палками и мечами. Но до чего же редки были здесь военные утехи!
Ни стратегии, ни тактики не знали вовсе. Стас пытался наладить учёбу, – фехтование на мечах, изучение правил обращения с копьём. Нет, никому ничего не надо. Даже князь удивлялся – мы же, говорит, и так их побьём. Стас понял: учиться – это признать, что мы чего-то не знаем. А признавать такое нельзя даже перед собою. Что ж, на фоне всеобщей неумелости в тех драках, которые вели между собою все эти, с позволения сказать, бойцы, дружина князя Ондрия не выглядела хуже других. Хуже было некуда.
А для боевой подготовки только одного нашёл Стас энтузиаста: это был тот самый пожилой дядька, которого князь Ондрий оставил поначалу опекать своего сына Иваку, занявшего вакантное место Лопотаря. Княжёнок подрос, и что-то у них с дядькой не сложилось; опекун вернулся к Ондрию. Оказалось, что он крупный спец по дракам на бунчуках, длинных палках.
Кем был тот дядька, турком ли, казаком, Стасу понять не удалось. В молодые года он служил у какого-то Алладина Сулеймана; во время войны того Алладина с Грузией попал в плен; от грузинов ушёл на север, там бегал от аваров и зихов, потом с купцами-тезиками поднялся вверх по Волге, и так попал к Ондрию.
Имя его оказалось для местных непроизносимым; Стас, по созвучию, звал его Гарбузом. Вот с ним он отводил душу, – и поговорить было о чём, и подраться грамотно. Они, бывало, такое отчебучивали, – народ со всего леса сбегался посмотреть. То на мечах машутся, то палками друг друга подковыривают, с ног валят, – Гарбуз, в бытность свою у турок, очень здорово это дело освоил. В бою им равных не находилось, но тут никто не связывал их учебные игрища с их же успехами в сражениях. Просто все знали: эти двое в состоянии отметелить хоть двадцать, хоть тридцать человек. Может, и сорок, – но таких больших армий ни у одного из окружающих князей не было.
Вспоминать о людях, покалеченных им в боях, Стас не любил. А до смерти убил, к счастью, только двоих. При его-то способностях мог и больше.
А однажды жарким августом напал на их городок враг, против которого оружие бессильно: чума. Занесли её купцы, пришедшие с запада. Помер князь, куда-то подевался Гарбуз. Он так любил смотреть на звёзды, – может, отправился на одну из них?.. Или опять рванул на юг.
Стаса очень удивляло, что сам он, заболев, мог трезво фиксировать происходящее. Потом понял: ведь это сон; больное тело разделено с его разумом, а в реальности он вполне здоров, спит себе у стеночки в Николинской церкви. А потому даже с некоторым юмором воспринял санитарную акцию, проведённую дружинниками боярина Оглана: они прискакали на конях (!) и сожгли весь «Ондрий град». Вместе с ними: со Стасом и ласковой Кисой.
…Проснулся он там же, где и уснул. Открыл глаза и увидел Маргариту Петровну и Анжелку, то есть Ангелину Апраксину, вполголоса обсуждающих какие-то фотографические премудрости. Когда он зашевелился и закашлялся – хотя уже не было вокруг него никакого дыма и огня, они на секунду отвлеклись, глянули на него без интереса и продолжили беседу, как ни в чём не бывало. Так что на этот раз он своей «отключкой» никого не переполошил.
Оксфорд, 2057 год
Премьер-министр прибыл в лабораторию ТР в четверг, ближе к вечеру. Днём в парламенте были дебаты по бюджету, и он был не в духе. Разумеется, вместе с ним прикатил и его помощник Джон Макинтош.
Директор – доктор Глостер, представил премьеру персонал лаборатории, особо выделив тех, кто участвует в погружениях или, по научному, в тайдингах, а затем, оставив сотрудников на рабочих местах, увёл его в тот же зал и прочёл тот же доклад, что неделей раньше читал Макинтошу, но только в этот раз максимально упростив изложение. Было известно, что премьер – блестящий стратег, но в технике – полный ноль. Болта от шурупа не отличит.
Выслушав доклад, премьер-министр довольно покивал головой и резюмировал:
– Итак, док, вы научились передвигаться во времени.
Несчастный Глостер едва не поперхнулся.
– Ваше превосходительство, – сказал он осторожно. – Это не совсем так. В итоге определённых манипуляций мы действительно попадаем в разные времена, но мы не знаем, где передвигаемся.
Премьер удивился.
– Как? – спросил он. – Разве это не одно и то же?
– Совсем нет, сэр. Представьте, что вы идёте ночью по чужой неосвещённой комнате. Вы передвигаетесь в темноте, но попадаете в разные углы комнаты. Мы не знаем, что представляет собой та среда, в которой мы передвигаемся, – что это за, так сказать, «комната», – хоть и научились определять некоторые параметры этой среды. Мы называем её «темпоральным колодцем», но природа явления нам неизвестна! Во всяком случае, оно – и не темпоральный, и не колодец.
Премьер, вздёрнув брови, посмотрел на Джона Макинтоша. Джон Макинтош, насупив брови, посмотрел на Сэмюэля Бронсона. Тот встал:
– Джентльмены! Так ли уж нам надо углубляться в теорию? Насколько я понимаю, его превосходительство интересуется практическим применением явления. Поэтому оставим теорию специалистам. В конце концов, никто до сих пор не знает, что представляет собою электричество, но это не мешает нам использовать его.
– Да, да, – поспешно сказал премьер. Он тоже не знал, что такое электричество, и не хотел показывать этого. – Давайте поговорим о применении. Сэр Джон объяснил мне, что ваша техника не даёт нам оперативного простора в двадцатом веке.
– Совершенно верно, сэр. Мы выходим в режим насыщения, получая физические фантомы, на глубине в триста лет. На глубине от ста пятидесяти до трёхсот лет нам удаются прекрасные призраки, но вместо разговора они издают завывание и звон и практического значения не имеют, поскольку их сдувает любой порыв ветра, и они почти не слышат. А ещё ближе к нашему времени максимум, что мы можем, это, в ряде случаев, позволить себе участие в спиритических сеансах в качестве бесплотных духов.
– Вот как. Но уничтоженный вами русский выходил в этот, как его, режим насыщения за сто лет. Я правильно информирован?
– Правильно, сэр; его звали Никодим Телегин. Надо будет поподробнее расспросить его, как он это делает. В следующий раз вместе с полковником Хакетом в погружение пойдёт мой заместитель по технике, доктор Бронсон. Пусть побеседуют с этим Никодимом, как специалист со специалистом.
Премьер вспылил:
– Вы что, обманывали меня? Ведь его уничтожили! Никодима не существует!
– Простите, сэр. В нашем деле обманов не бывает! Да, Никодима не существует – до того момента, как он был рождён своей матерью. И с того момента, как его задушил полковник Хакет. Но между этими двумя моментами, ваше превосходительство, он существует. И полковник будет его душить столько раз, сколько нам потребуется.
Премьер-министр опять посмотрел на Макинтоша:
– Что вы думаете об этой чепухе, Джон?
– Тут ещё и не такое услышишь, сэр, – сморщился его помощник. – Но у меня, если позволите, вопрос к доктору Бронсону. Сэм, скажи, а каково твоё мнение о «парадоксе времени», вытекающем из теории Эйнштейна? Ведь если полковник будет убивать одного и того же русского много раз, может возникнуть, так сказать, конфликт интересов? Один раз он его уже убил, предположим, в среду. Если теперь он убьёт его днём раньше, во вторник, то в среду ему будет некого убивать! А между тем, он это уже сделал. А? Что, в таком случае, будет с полковником Хакетом, убивающим русского в среду?
– Дружище, не беспокойся о полковнике. Он вообще никого не убивал, ни в среду, ни во вторник, а валялся, в полном трансе, на кушетке в нашей лаборатории. У него алиби, Джон! А что случится с его фантомами, лично мне наплевать.
– Сложность в том, господа, что из-за нехватки финансирования мы можем позволить себе не больше одного-двух погружений в месяц, – встрял доктор Глостер.
– Не напоминайте мне о финансах! – завопил премьер. – Хватит с меня сегодняшнего заседания в Палате общин.
– Эх, как жаль, что с нами нет первооткрывателя темпорального эффекта, автора современной теории времени профессора Гуца! – услышав их перепалку, сказал Сэмюэль с нарочито драматическими нотками в голосе. – Как бы мы продвинулись в техническом отношении! Уж он-то быстро решил бы проблему нулевого трека: никаких трёхсот лет, управлялись бы за пятьдесят.
– А куда он делся? – пробурчал премьер, остывая.
– Умер, ваше превосходительство, в самом расцвете сил и без всяких видимых причин. Умер на другой же день после того, как осуществил первое погружение в темпоральный колодец по заданию правительства. Это было ещё до вашего избрания премьером. Чудесный был человек!
– Вот как? Примите мои соболезнования.
– Я и доктор Глостер, сэр, полагаем, что его смерть – акт темпоральной агрессии из будущего. Кто-то, желая остановить наши исследования, убил его. Война с Британией уже идёт, и начали её не мы!
Премьер с минуту сидел, открыв рот, а потом прошептал:
– Кто?
– А кто ещё, сэр, кроме нас, имеет ядерное оружие? Кто, кроме нас, летает в космос? Кто в 1980-м надрал нам задницу?
– Североамериканские Штаты!
– Да, ваше превосходительство, но это лишь один, самый явный вариант. Возможен и другой: воду мутят русские. Россия тысячу лет не давала никому нормально жить. Казалось бы, к середине двадцатого века мы с ней покончили; от неё остались одни ошмётки, и что же? Мы находим русских во всех странах, их больше, чем евреев! Их страна не в состоянии воевать с Британией, но почему же отдельным русским диверсантам, если мы будем благодушествовать, не вести с нами войну из будущего, подрывая наше могущество в прошлом?
Премьер откинулся в кресле. Наверное, его не зря считали хорошим стратегом. Подумав не более пяти минут, он обратился к Макинтошу:
– Джон, пометьте в блокноте. Пусть завтра в первой половине дня ко мне зайдёт министр финансов.
Доктор Глостер и Сэмюэль сидели с каменными лицами, но под столом директор лаборатории ТР одобрительно похлопал своего зама по ноге, что, впрочем, не укрылось от внимательных глаз Джона Макинтоша. А премьер-министр поднялся с кресла, несколько раз, нахмурившись, прошёлся по залу, и заговорил:
– Конечно, основной интерес Британии – противостоять агрессии. Но мы не дети, мы понимаем, что лучшая оборона – это нападение. В качестве превентивной меры следует подорвать возможность развития агрессора в прошлом. Вы сказали, что это или американцы, или русские. Я думаю, это всё же Америка. Она взяла под свой протекторат Сибирь, помешав сделать это нам, хотя это мы воевали с Россией в 1939-м. Она стравила Японию с Китаем, развязала войну с нами в 1980-м, и вообще отняла у нас Китай. Нас также интересует август 1914 года, Англо-бурская война… Но, как вы мне сказали, весь двадцатый век для нас недоступен. И девятнадцатый тоже.
– Мы даже не можем предотвратить завоевание независимости Североамериканскими Штатами в 1783 году, сэр, – подсказал Джон Макинтош. – До этой даты меньше трёхсот лет.
– Да, и это печально.
– И не можем противодействовать развалу Германии в 1919-м, после Первой мировой войны.
– Вот что меня совершенно не интересует, так это Германия, – отозвался премьер-министр. – Германские земли под полной нашей защитой, снабжают нас продовольствием, а когда надо, дают рекрутов. Пусть дерутся между собой; их драка – залог нашего влияния.
И премьер, не садясь в кресло, нетерпеливо махнул рукой:
– Ну, ведите, показывайте, что у вас есть.
Премьер-министр, его помощник и всё руководство лаборатории потянулись к дверям. Уже когда они вышли, вслед за ними через ту же дверь выскользнул из зала совещаний о. Мелехций, на протяжении всего этого часа сидевший, никем не замеченный, прямо среди них.
Когда начальство вышло в оперативный зал, все сотрудники встали. Доктор Глостер подвёл премьера к экрану, на котором, на фоне контурной карты мира, сиял десяток широких кругов разной яркости, и бежали строки цифр, и пояснил:
– Это, ваше превосходительство, экран главного монитора. Яркие кружочки показывают места «ходок». Треугольник посередине – это мы, в Англии. Карта условная, на самом деле мы лишь иногда знаем, в какой стране действует ходок. Вот эти три точно в России – она, как вам известно, раньше была излишне большой, трудно ошибиться. Вот эти кружочки – в Европе, но где именно живёт ходок, сказать невозможно.
– Если не во Франции, то нам он пока не интересен, – буркнул премьер. – Излишняя самостоятельность Франции меня беспокоит, а остальная Европа и так наша.
– А вот единственная точка в Америке. Но мы пока этим ходоком не занимались.
– Почему?! Это же самое важное!
– В тех временах, куда мы попадаем, плавание через Атлантику сопряжено с большими трудностями. Чтобы попасть на корабль, нужно иметь хоть какие-то деньги, а наши люди оказываются в прошлом голыми, без связей и поддержки. А чтобы внедрять их в прошлое непосредственно в Америке, там надо оборудовать нашу базу, завезти аппаратуру…
– Это нежелательно.
– Совершенно верно… А вот точки, сигнал которых настолько слаб, что даже нельзя определить эпоху. Возможно, эти дайверы действовали слишком давно, две, три тысячи лет назад. А может, и недавно. Они, как видите, в Индии и Африке. Мы запускали туда фантомов, но их съедают настолько быстро, что выяснить ничего не удалось.
– Кто съедает?
– Кто угодно: тигры, люди, крокодилы. Там все кушать любят.
– Не надо тратить на это энергию.
– Слушаюсь, ваше превосходительство.
– А как вы определяете, кто есть кто и где?
– Процедура сложная, сэр. Простите, но это вам лучше объяснит мистер Бронсон.
– Если коротко, – начал Сэм, – в неизвестной нам нематериальной субстанции темпорального колодца имеется малое количество физических частиц. Когда матрица человека проходит через субстанцию, она вбирает эти частицы и выкидывается в физический мир в виде призрака или фантома. Массированный замер соотношений позволяет делать выводы, как вы сказали, «кто и где». Нулевой трек смазывает картину, а выход в режим насыщения приблизительно…
– Достаточно, я понял, – быстро прервал его премьер.
Отец Мелехций давно уже собирал коллекцию кретинов и кретинизмов. Сегодня, неотрывно следуя за премьером, он получал большое эстетическое наслаждение. Заметив, что директор подзывает премьер-министра к одному из мониторов, он придвинулся поближе, чтобы не пропустить ни слова.
– Ваше превосходительство, – сказал доктор Глостер, – обратите внимание: тут более подробно показана ситуация в России. Одна из точек – вот она, видите? – появилась недавно, сразу после ликвидации нами русского ходока Никодима.
При этих словах отец Мелехций с надеждой посмотрел на премьера, и его ожидания были вознаграждены:
– Агрессор усиливает нажим! – пробормотал премьер сквозь зубы, сурово глядя на экран и хмуря брови.
– Проблема в том, сэр, что практически одновременно две другие точки погасли.
– Война разгорелась не на шутку, – играя желваками, произнёс премьер. Отец Мелехций тихо радовался: его коллекция пополнялась на глазах.
И тут Джон Макинтош не выдержал.
– Сэр, они вас дурачат! – закричал он. – Ведь это же прошлое, там всё уже было, там ничего не может ни прибавиться, ни исчезнуть!
– Разве? – удивился премьер.
– Да, – подтвердил доктор Глостер. – Если говорить о времени, то так оно и есть. Но ведь я уже имел честь доложить вам, что мы имеем дело не со временем. Это что-то другое, вроде перекрёстка идеального и материального миров, к тому же уходящего вглубь.
Премьер-министр ужасно не любил, когда его выставляли дураком. Он надулся:
– В таком случае, что вы мне показываете на своих мониторах? Я думал, тут научная лаборатория, а у вас «идеальный мир»? Мракобесие?
– Сэр, «идеальный» не в смысле религиозных мифов, а как отражение, так сказать… Сэм, да помоги же!