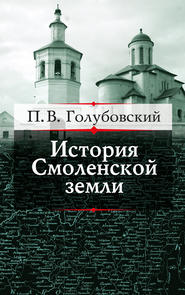
Полная версия:
История Смоленской земли до начала XV столетия
Позволим себе теперь остановиться на одном соображении, которое в ряду с другими получает, по нашему мнению, некоторое значение. У финнов западных существует для русских два имени: Venoa и Kriev, Русская земля называется Venoama и Krievma102. Обыкновенно народ называет своих соседей по имени ближайшего к нему их племени или колена. Каким образом здесь мы находим двойное название для одного и того же народа? Можно дать такое объяснение, что Venoa явилось при первом столкновении финнов с ильменскими славянами, а потом было перенесено на всех русских славян; что затем, когда приблизились к финнами кривичи, первые, ознакомившись с последними, усвоили их племенное имя, которое и перенесли затем на всех восточных славян. Но, как мы увидим далее, ильменские славяне – те же кривичи и, судя по народным преданиям, также называли себя в древности последним именем. Кроме того, раз установившееся для славян имя Venoa должно было удержаться как первое, ранее укоренившееся, или получить частное значение, а мы видим, что и оно и имя Kriev имеют значение общее. Это соображение не теряет своей силы даже и в том случае, если мы предположим, что имя Venoa получило свое начало при знакомстве финнов со славянами балтийскими. Мы имеем указание, что имя Venedi, из которого, конечно, и произошло Venoa, долго держалось на юге. В письме хазарского кагана Иосифа, писанном около 960 года к испанскому министру финансов Хосдаи Ибн-Шапруту, славяне названы Венентер или Ванантор. Последнее, несомненно, есть измененное Veneti, вариант Venedi103. В VI веке еще вся масса славян носила это имя, хотя и разбивалась уже на два больших колена: Sclavi и Antes, как об этом говорит Иорнанд104. Трудно предположить, чтобы имя Veneti дошло до Хазарии длинным путем с берегов Балтийского моря через Поволжье. Естественнее допустить, что оно за все время от Иорнанда до Иосифа не исчезло и не принадлежало исключительно славянам балтийским. Необходимо обратить внимание еще и на следующий факт. Латыши, и вообще литовцы, знают для русских только одно имя Kreews, то есть кривич105. У них нет, насколько нам известно, никакого намека на имя Venedi или Veneti. Чем объяснить это явление? Перечисляя народы, покоренные Германрихом, Иорнанд между прочим упоминает мерю, мордву, чудь и др.106 Сомнительно, чтобы власть готского короля простиралась так далеко на север, в область среднего течения реки Волги и нижней Оки. Едва ли не следует здесь видеть указание на факт обитания угро-финских племен гораздо южнее, что стояло бы в прямом соответствии со всеми вышеприведенными фактами. Имя Venoa для русских славян может вести свое начало от финнов с того отдаленного времени, когда они соседили на юго-западе нынешней России со славянским племенем еще до окончательного раздробления его на отдельные колена. Имя Kriev указывает на момент этого распадения и на ближайшие затем отношения, по большей части враждебные, к передовому русско-славянскому племени, кривичам, шедшим в авангарде колонизации. Тот факт, что у литовских племен для русских славян есть одно только имя Kreews, доказывает только, что в отдаленнейшую эпоху, когда русские славяне группировались у Прикарпатья, они были отделены друг от друга угро-финскими поселениями, а затем столкнулись уже во время разлива русско-славянской колонизации, во главе которой шли кривичи. О движении литовского племени мы будем говорить несколько ниже.
В настоящее время нам не приходится останавливаться долго на описании колонизационного движения угро-финского племени. Мы отметим здесь лишь те факты, которые имеют ближайшее отношение к интересующему нас вопросу. Вначале мы замечаем поступательное движение угро-финнов на запад. Так, племя емь из Заволочья постепенно придвигается и занимает нынешнюю Финляндию. Есть основательное предположение, что весь и емь составляли лишь колена одного племени, причем весь обитала значительно западнее, чем живут в настоящее время остатки этого племени под названием Vepsa107. Несомненно также, что в языке мордвы сохранилось много литовских слов, а самый язык близко стоит к западно-финским, что указывает на пребывание этого народа гораздо западнее, чем в настоящее время108. По всей вероятности, также и ливы в отдаленнейшую эпоху занимали весь правый берег Западной Двины, что видно из их преданий и из топографической номенклатуры109. Весьма возможно также, что поселения корси были расположены в позднейшей Новгородской области и занимали ее юго-восточную часть110. В сопоставлении с раньше приведенными фактами эти данные говорят также в пользу заключения, что вся та территория, на которой в историческую эпоху мы видим действующими кривичей, была занята угро-финскими народами.
Наша летопись, при перечислении инородческих племен, указывает и на отдельные народцы литовского племени. Так, мы находим литву, зимеголу, летьголу111, причем они помещаются на тех местах, где находятся в настоящее время. Но есть основание думать, что правый берег Западной Двины никогда им не принадлежал. Это доказывается существованием топографических названий угро-финского происхождения, во множестве сохранившихся в указанных местностях. В преданиях ливов мы встречаем намек на насильственное подчинение, на вытеснение их с мест прежних поселений латышами. Среди латышского населения сохранился почти до последнего времени остаток этого первобытного ливского населения в виде кревингов112. Таким образом, литовское племя в доисторические времена начало колонизационное движение по берегу Западной Двины. Как угро-финны подвигались с востока на запад, так литовское племя, благодаря тем же условиям местности, направило свою колонизацию на восток. К несчастью, в нашем распоряжении нет уже теперь того материала, который послужил при определении распространения племен угро-финских. Топографическая номенклатура наших западных областей до сих пор с этой стороны совершенно не подвергалась разработке. Раньше нам приходилось приводить археологические данные, указывающие на пребывание в доисторическое время на правой стороне Днепра, в области кривичей, какого-то инородного населения, чуждого позднейшим колонистам, славянам. Может быть, в числе этих оригинальных памятников некоторые должны быть приписаны литовскому племени, но мы не решаемся ничего сказать утвердительно, не чувствуя себя достаточно компетентными в подобных вопросах113. Существуют мнения о распространении литовского племени в отдаленнейшие эпохи до берегов реки Припяти на юг114. Что касается расселения его на восток, то тут могут до некоторой степени помочь косвенные указания. Замечено, как сказано выше, что в языках угро-финнов сказывается сильно влияние на них литовского языка115, притом на такие отдаленно живущие племена, как мордва. Если по языку последняя принадлежит к западным финнам и, следовательно, некогда обитала ближе к западу, то, с другой стороны, можно предположить также и проникновение литовского племени на левую сторону Днепра, распространение его поселений в восточном направлении гораздо далее, чем мы это видим в настоящее время. Наша древнейшая летопись сообщает, между прочим, странный на первый взгляд факт о существовании по берегам реки Протвы какого-то народца, носившего имя голядь. Эти известия крайне отрывочны. В 1058 году «победи Изяслав голядь», а в 1147 году «шед Святослав и взя люди голядь, верх Поротве»116. При перечислении литовских народцев Дюсбург, древнейший прусский летописец, упоминает землю Galindia и народ Galinditae117. Упоминание об этом народе мы встречаем в очень отдаленную эпоху. Император Валузиан, в III столетии по Р. X., носит прозвище: Финский, Галиндийский, Венедский (Фгюпход, TaXivSixog, OvevSipog)118. Голядь, голяди, Galindia и Galindi так близки друг к другу, что едва ли возможно видеть здесь простое созвучие, и весьма возможно, что в лице голяди перед нами является обрывок литовского племени, забравшийся чересчур далеко в своем колонизационном движении на восток и отрезанный затем от главной массы движением племени славянского119.
С вопросом о расселении литовского племени тесно связан другой – об образовании белорусского наречия. Несомненно, тут связываются влияние местности, историческая судьба племени кривичей, радимичей и отчасти вятичей, но нельзя отрицать также и влияния между племенных отношений в доисторическую эпоху. Оригинальные особенности наречия появляются в областях Полоцкой, Смоленской, Новгородской и Псковской еще в такое время, когда ни о каком политическом влиянии Литвы не может быть речи. Укажем хотя бы на торговый договор 1229 года, в котором уже ясно слышны звуковые особенности белорусского языка120. Оказывается, что потомки кривичей на среднем Поволжье говорят впоследствии на великорусском наречии, а по Западной Двине, по правому, а отчасти и по левому берегу Днепра – на белорусском. То же самое, хотя в меньшей степени, случилось с вятичами. Так, самая западная часть Орловской губернии, именно часть Брянского уезда Орловской губернии, – говорит по-белорусски, и поселения жителей, объясняющихся на этом диалекте, тянутся спорадически по Мглинскому и Сурожскому уездам, до пределов Малороссии121. Чем объяснить этот факт, что одно и то же племя, кривичей, говорившее некогда, конечно, на одном наречии, является затем объясняющимся на двух различных диалектах? Единственное объяснение, какое, по нашему мнению, здесь возможно, заключается в том, что две половины одного и того же племени – кривичей, вятичей, все равно – попали в доисторическую эпоху под разные этнографические влияния, которые и оказали различное воздействие на музыкальную, звуковую сторону их языка. Насколько мы знакомы с наречиями великорусским, белорусским и малорусским – различие их состоит не в обилии особенных слов, а в звуках, в музыкальном отношении. Несомненно, эти звуковые особенности в значительной степени обязаны смешению разнородных племенных элементов в доисторическое время, взаимному чисто музыкальному влиянию одного языка на другой. Если мы присмотримся к географическому распространению наречий, то не можем не заметить интересного факта. Великорусское наречие господствует во всех тех областях, где в доисторическое время констатируются угро-финские поселения. Точно так же там, где распространен язык белорусский, мы можем предполагать в доисторическую эпоху распространение литовского племени. После сказанного нами, конечно, сам собой появляется вопрос – каким образом мы представляем себе ход славянской колонизации? К этому вопросу мы теперь и приступаем.
В настоящее время не подлежит сомнению, что европейской прародиной славянского племени было Прикарпатье122. Из этого центра началось движение славянской колонизации во все стороны в виде радиусов. Я уже говорил выше, что расселение в стране, покрытой сплошными первобытными лесами и болотами, должно было совершаться по берегам рек, большая часть которых имеет приподнятые берега. От Прикарпатья расходятся в разном направлении реки. Достаточно указать Вислу, Западный Буг, Припять, Днестр. Их-то берега, а потом и берега их притоков, служили путями для колонизационного движения. Та часть славянского племени, которая в историческое время является под именами угличей и тиверцев по берегам Черного моря, спустилась туда по побережью Днестра. Является вопрос, каким образом колонизировались области по Днепру, Западной Двине и Десне? В этом именно вопросе археология может оказать значительную услугу. Замечено, что по берегам реки Припяти существовали два похоронных типа, причем дреговицкий тип присутствует к югу от упомянутой реки. Точно также к северу от нее является смешение похоронных типов. Важно при этом то обстоятельство, что дреговицкий тип, спорадический на юге, является преобладающим на северном берегу реки Припяти. Затем в углу, образуемом реками Днепром, Припятью и Березиной, на территории весьма не обширной, мы находим смешение погребальных типов, из которых один – несомненно дреговицкого происхождения123, что касается другого типа, то едва ли не придется признать его кривицким. Мы указывали уже раньше, что по берегам рек Беседи, Сожа и Днепра, в южной части области радимичей, встречается похоронный тип сожжения, и сделали предположение, что это есть результат северянского влияния на радимичей; но этому факту может быть дано и другое объяснение. Мы решаемся высказать предположение, что это смешение погребальных типов по берегам реки Припяти, в углу между pеками Припятью, Березиной и Днепром, в углу между Сожем, Беседыо и Днепром, есть результат колонизационного движения русско-славянских племен из Прикарпатья. Весьма возможно, что распадение на отдельные племенные единицы произошло еще на прародине славянского племени, что предполагается и по отношению ариев124. Тогда же могли усвоиться этим отдельным коленам особые названия по случайным обстоятельствам, особенно по характеру местности, которую занимало то или иное колено. Домыслы нашего старого летописца о том, что поляне прозвались так, потому что жили в полях, а древляне – потому что жили в лесах125, конечно, не могут иметь значения хотя бы потому уже, что и поляне попали на новых местах своего обитания в такие же первобытные леса, как и древляне, и последние, как и первые, занимались земледелием. К тому же он отказывается дать объяснение для таких других имен, как кривичи, северяне, дулебы, тиверцы, угличи126. Тайна этих названий кроется, несомненно, в обстоятельствах жизни русско-славянских племен еще в Прикарпатье. Колонизацию свою русские славяне начали, уже распавшись на отдельные племена. Не может быть сомнения в том, что племена, занимающие в историческое время более отдаленные местности к северо-востоку и северу, двигались впереди других. Таким образом, в северо-восточном направлении первыми колонизаторами являются кривичи, в восточном направлении – северяне. За ними следуют по порядку поляне, древляне; но раньше последних двинулись дреговичи, которые были вытеснены с южного берега реки Припяти древлянами; часть древлянского племени перешагнула и на северную сторону Припяти. Этим объясняется незначительное количество случаев похорон дреговичей на южной стороне этой реки и смешение погребальных типов в углу между Припятью, Березиной и Днепром. Дреговичи в своем движении натолкнулись в этом месте на более ранних колонистов кривицкого племени и вытеснили их отсюда за реку Днепр, вернее же, движение кривичей направилось по течению Березины и правых притоков Припяти, затем по берегам левых притоков Западной Двины, пока не достигло последней. Тут для кривицкого племени открывалась дорога на запад по берегам Западной Двины, на север через правые притоки последней, которые приводили кривичей к системе рек Великой и Волховы; на восток Западная Двина вела их в область реки Днепра. Этим движением кривицкого племени и постепенным вытеснением его дреговичами и объясняется, по нашему мнению, нахождение к югу от Западной Двины могил с кривицким похоронным типом сожжения; таким именно ходом колонизации объясняется та спорность границ между Полоцкой и Киевской землями, какую мы наблюдаем в историческую эпоху. Дреговицкая земля не образовала отдельного обособленного политического целого, а причислялась к Киевскому княжеству; в силу этого киевские князья постоянно претендуют на Минск, так как он, вероятнее всего, лежал еще на дреговицкой территории127. Но на него изъявляют свои права и князья земли Полоцкой, князья кривицкие, и в силу именно того обстоятельства, что на левой стороне Западной Двины кривичам удалось закрепить за собою некоторые пункты, как остатки от некогда бывшего заселения ими области к югу от Западной Двины. Таким только образом, кажется нам, примиряются друг с другом и известие летописи о расселении дреговичей от реки Припяти до Западной Двины128, подкрепляемое археологическим данными129, и факт существования кривицкого похоронного типа к югу от упомянутой реки130, и причисление Минска к числу городов кривицких131.
Несомненно также, что ильменские славяне представляют собой не более как часть великого кривицкого племени. Характер местности представлял все удобства для обширной колонизации на север: верхние и правые притоки Западной Двины переплетаются с реками областей Псковской и Новгородской; естественных преград нет никаких. Что новгородцы носили имя словене и удержали это имя навсегда, – этот факт объясняется просто тем, что они как передовые колонисты кривичей, столкнувшись на север от Западной Двины со сплошным населением финского племени, назвав это население чудью, в отличие от него именовали себя словене, оставаясь в то же время кривичами. Память об этом имени долго жила в народных преданиях Новгородской области, хотя, конечно, в искаженном виде132. Мы раньше видели, что похоронный тип, наблюдаемый в курганах области Ильменской и Смоленской, один и тот же – это преобладающее сожжение133. Кроме того, мы находим прямое указание, что славянское население Псковской области представляет собой кривичей. Так, одна из летописей, рассказывая о призвании варягов и занятии Трувором Изборска, добавляет: «а то ныне пригородок псковский, а тогда был в Кривичех больший город»134, но в одно и то же время этот город носил название Словенска, а ключи, протекающие подле него, Словенских ключей135. Как след колонизации кривичей с верховьев Западной Двины в область Ильменя долго сохранялось для Торопца другое имя Кривич, или Кривитебск136.
С верховьев Западной Двины не трудно было перешагнуть в область верхнего течения Днепра. Что колонизация кривицкого племени шла именно в таком направлении с запада на восток, к этому приводит еще и следующее соображение. Прежде всего, обращает на себя внимание известие летописца в рассказе о расселении русско-славянских племен. «А другии (Славяне) сели на Полоте, иже и полочане. От них же и кривичи, иже сидят на верх Волгы, и на верх Двины, и на верх Днепра, их же и город есть Смоленск: ту-бо сидят кривичи»137. Далее при перечислении русско-славянских племен находим объяснение, что «и в Полотьске кривичи»138 Таким образом, полочане являются такими же кривичами, как и славяне смоленские. Мало этого. В этом летописном рассказе ясно указывается и самое направление колонизации кривичей с берега Западной. Двины к верховьям, как ее, так и рек Волги и Днепра. Древнейшими поселениями кривичей приходится признать двинские, полоцкие, а самый Смоленск, появившийся еще в доисторические времена, представляет из себя город кривицких колонистов, пригород полоцкий. Сообщение летописца о том, что у кривичей главный город – Смоленск, не имеет значения, так как явилось в конце XI или в XII веках, когда Смоленск действительно или начинает играть, или уже играет политическую роль. Но такого значения первоначально он не имел. Достаточно повнимательнее приглядеться к другим летописным известиям, чтобы убедиться в этом вполне. Скомкав в одно факты различных эпох, наш летописец не сумел окончательно стереть в них давней исторической действительности. Летопись в известной легенде о призвании варягов, делая участниками его и кривичей, ясно указывает, что это были кривичи Полоцка139. Никакого упоминания о кривичах смоленских нет. Это указание стоит в полном соответствии с другим, где рассказывается о взятии Олегом Смоленска. Князь взял с собой, в числе других ополчений, и кривичей. Выходит, что он вел кривичей на кривичей. Стало быть, те, которые находились в войске Олега, были полочане. Смоленск без всякого сопротивления сдается и принимает княжеских посадников140. Не было еще распадения кривицкой земли на отдельные политически обособленные единицы, и пригород мирно следует примеру своей метрополии. Обратим внимание на договор Олега с греками. Мы видим, что князь требует дани на города: Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов и Любечь141. В походе на Царьград участвовали и кривичи, и вот на главный город их, на старый Полоцк, как на представителя земли, и берется дань. О Смоленске не может быть и речи, как не имевшем еще политического значения. Нам как бы противоречит упоминание о Смоленске у Константина Багрянородного. Но в том месте, где мы находим известие об этом городе, трактуется исключительно о торговых сношениях, причем намечены и города, лежащие на великом водном пути. В Византии был известен путь через Новгород Великий, а о дороге через Западную Двину они совершенно не знали, в силу чего у ученого императора не упомянут Полоцк142. Другое дело скандинавы. Они прекрасно ознакомились с обоими путями и через Волхов и через Западную Двину. При существовании несомненных торговых сношений, этих витязей, предлагавших свои боевые услуги тому, кто больше даст, более интересовали политические отношения посещаемых ими стран. В их рассказах поэтому фигурируют имена местностей, имевших политическое значение. Оказывается, что в скандинавских сагах древнейшего происхождения нет упоминания о Смоленске, но зато как важный политический центр фигурирует Полоцк. Скандинавы знают Киев: он, по всей вероятности, с отдаленнейших времен известен у них под именем Днепра-города; они знают Новгород, говорят о Полоцке, но им не известен Смоленск, который появляется лишь в позднейших скандинавских литературных произведениях. Проезжая из Балтийского моря в Черное через Западную Двину и Днепр, или из Финского залива – через Неву, Ладожское озеро, Волхов, Ильмень, Ловать, Пало и т. д., или через Ловать, Кунья – Двина, Ельша, Ватря, Днепр, – скандинавы или были вблизи Смоленска, или шли мимо последнего и должны были знать его. Были кроме того и случаи, чисто политического характера, когда Смоленск мог быть упомянут, если бы играл хоть какую-нибудь политическую роль143.
Перешедши в область реки Днепра и Волги, кривицкое племя колонизировало огромные пространства, расселяясь далее и далее на восток. Оно перешло к системе реки Вазузы с Гжатыо, оттуда перешагнуло на берега реки Москвы и колонизировало территорию, вошедшую затем в состав земли Суздальской. Что колонизация на среднее Поволжье шла с востока, лучшим доказательством служит то обстоятельство, что в состав Смоленской земли входили области по рекам Исконе и Исме и даже переходили за них к востоку.
Раздавались мнения, что кривичи не представляют из себя славянского племени или, по крайней мере, являются смешением славянского элемента с литовским, причем самое имя кривичи готовы были производить от кривее, как назывался верховный жрец у литовцев144. Это мнение возникло, во-первых, потому что летопись в своем перечислении славянских племен не упоминает кривичей145, а во-вторых, вследствие сильно сказывающегося на последних литовского влияния со стороны языка и некоторых черт быта. Но летопись раньше очень ясно говорит, что кривичи и полочане – одно и то же племя146, а пропуск имени кривичей при перечислении русско-славянских племен вполне понятен: летописец выразил здесь только сохранившийся еще в его времена взгляд, что полочане есть главная часть племени, а стало быть, не было нужды, назвав полочан, упоминать и кривичей. Это главенство полочан подтверждается, как мы только что говорили, и другими соображениями. Лингвистическое влияние литовского племени на кривичей едва ли подлежит сомнению. По этому вопросу мы только что высказали свое мнение. Теперь, когда нам известен ход кривицкой колонизации, мы можем представить себе ее движение в таком виде.
Финское племя, подвигавшееся с востока на запад, простершее некогда, как мы видели, свои поселения до карпатской прародины славян, было, однако же, немногочисленно около этих местностей, что доказывается немногочисленностью топографических названий к западу и спорадичностью памятников древности, какие могут быть приписаны угро-финским племенам. В очень отдаленные времена литовское племя распространилось далеко на восток, разрезало угро-финские поселения надвое и стерло те из них, которые находились к юго-западу от Днепра (в районе Днепр – Двина – Припять). Славянское племя теперь было на севере отделено от чудского. Затем началось колонизационное движение славян, во главе которых двигались кривичи. Они частью уничтожили, частью ассимилировали литву на пространстве между Припятью, Двиной и Днепром, затем врезались между литовскими племенами у верховьев Днепра, раздвоили их, снова уничтожили или поглотили те из них, которые были отброшены к востоку, как, например, голядь. Но передовые ветви кривицкого племени неудержимо стремились все вперед и вперед на север, восток и северо-восток. Понятно, что те кривицкие поселения, которые ушли далее в указанных направлениях, подвергались литовскому влиянию менее, чем оставшиеся на Двине и в Приднепровьи, но зато эти передовые колонисты в своем дальнейшем движении столкнулись со сплошным, а не спорадически уже рассеянным угро-финским населением, и должны были уничтожить или ассимилировать его147. Вот почему мы имеем право предполагать, что Смоленская земля при самом выступлении своем на историческую сцену носила в себе уже начала раздвоения, что в двух половинах ее, западной и восточной, существовала даже в то время значительная разница в населении, явившаяся результатом взаимодействия разнородных этнографических элементов.



