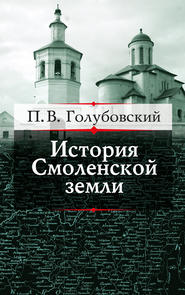
Полная версия:
История Смоленской земли до начала XV столетия
Археологические данные, хотя и немногочисленные, добытые путем раскопок на территории кривицкой земли или сохранившиеся на поверхности почвы, наводят на мысль, что славянское племя кривичей, явившись в этой стране, застало ее уже занятой каким-то иноплеменным населением. Чем далее, тем более археология накопляет факты для определения народности отыскиваемых древностей. В отношении некоторых из открываемых раскопками предметов можно сказать почти с полной достоверностью о месте их происхождения, но, однако же, далеко не обо всех и не в каждом данном случае. Для решения же вопроса о племени, обитавшем в исследуемой местности, эти вещевые показания не могут служить прочным основанием. Достаточно сказать, что присутствие предметов того или иного типа на известной территории может быть результатом торговых сношений, иногда очень отдаленных. Гораздо большее имеют значение в определении национальности коренных обитателей особенности погребения, те характеристические черты отношения к усопшему, которые являлись следствием религиозных верований обитателей данной территории. В этом отношении археология достигла уже некоторых результатов, и было сделано несколько попыток группировки признаков народности курганов36. Не можем не сказать, что эти попытки не представляют собою последнего слова археологии, которое будет произнесено, может быть, еще не скоро, когда весь, огромный уже, накопленный материал будет приведен в систематический порядок. Главное затруднение состоит в том, что мы не можем найти почти ни одного уголка в пространстве не только России, но и вообще всей Европы, где бы исторические данные не указывали нам или на преемственную смену народностей, или на их смешение. В частности, в отношении России мнение о необходимости предполагать чистые похоронные типы в древнейших центрах поселения русско-славянских племен, как указывает наша летопись, имеет некоторое основание, хотя нельзя отрицать и того, что в первобытной чистоте мы должны искать погребальные обряды на европейской прародине славянского племени, в Прикарпатье37. Действительно, мы находим иногда на более или менее обширной территории десятки курганов с определенным ясно выраженным характером. Летописец, описывая нравы русских славян в дохристианскую эпоху, рассказывает, что они, «егда кто умирание в них, творяху тризну велию и потом, склад громаду дров велию, полагаху мертвеца и сожигаху, и по сем собравше кости, вкладаху в суд (сосуд) и поставляху на распутии на столпе, и в курганы сыпаху, иже творять вятичи и ныне, и кривичи»38. Таким образом, мы должны считать за несомненный факт, что у кривичей совершался обряд сожжения покойников, с поставлением погребальных урн в курганах, на перекрестке дорог39. Но, как оказывается из несомненных фактов, у русских славян существовал не один только обряд сожжения, но и простого погребения с насыпкой курганов, как мы это увидим далее. Что же касается племени кривичей, то данные археологии стоят с известием летописца в полном соответствии. Достаточно сказать, что из разрытого во время одной экскурсии в различных уездах Смоленской губернии 91 кургана 50 заключали в себе обряд сожжения и только в 15 оказалось погребение40. Постараемся нарисовать этот преобладающий похоронный тип. Как можно думать на основании имеющегося в нашем распоряжении материала, кривичи устраивали костер, иногда огромных размеров, и клали на него покойника с предметами домашнего обихода, украшениями, а также и с оружием. Затем костер зажигался; когда он сгорал, поверх его насыпали курган, при чем землю брали тут же, вокруг кострища. Но такой способ похорон был менее распространен, чем другой. Приготовив покойника к похоронам, устраивали костер, сжигали покойника без вещей, а затем собирали пепел в горшок и переносили его на другое место, иногда тут же рядом с кострищем. Начинали насыпать курган. Когда насыпь была поднята до известной высоты, на нее ставили погребальную урну, клали около нее вещи, а оружие, как копье, меч, втыкали около нее. Затем сверху доканчивали насыпку кургана. Впрочем, иногда погребальные урны ставились не в середине кургана, а на твердой земле или даже на подложенных под них камнях41. Если мы теперь обратимся к карте, то область распространения этого обряда трупосожжения, его господства, будет простираться по верхнему течению Днепра, по реке Вопи приблизительно до города Ржевы, на реке Волге, затем к югу от Днепра до верховьев реки Десны или лучше до города Ельны, откуда граница по косой линии к Днепру; затем на правой стороне Днепра определить область его распространения нельзя, хотя по берегу самой реки он всецело господствует42. Этот похоронный тип сожжения, при чем пепел собирается или не собирается в урны, не является, однако же, у славян единственным. Можно только утверждать одно, что там, где мы, на основании других данных, знаем о пребывании славян, могилы с погребальными урнами, среди других, должны быть признаны славянскими, при этом, однако, возможно, что могила будет сделана или только из земли, как мы видели сейчас у кривичей, как мы видим это у северян и в Мекленбурге43, или из камней, причем погребальные урны будут стоять в каменных ящиках и покрыты будут каменной плитой, как это мы находим в Польше и Моравии44.
Но оказывается, как мы сказали раньше, что у славян был обряд похорон, состоявший из простого погребения с незначительным различием в подробностях, не составляющим существенной важности. И вот лишь только мы зайдем за город Ельну, вступим в область верхнего течения Десны и реки Сожа, как тотчас попадаем на территорию какого-то племени, у которого преобладающим, если не единственным, типом похорон является погребение. Так, во время одной только большой археологической экскурсии в области реки Днепра и Сожа, Дрюти (нижнее течение), Осетра и Беседи оказалось около 66,7 % курганов с типом погребения и только 33,3 % – с трупосожжением45. Самое погребение совершалось таким образом. Покойника клали или прямо на грунт, или в ямы, глубиной 0,5–1,5 аршина. Иногда устраивали деревянный сруб, труп полагали в него. Тут же устраивался костер, на котором, может быть, приносилась жертва, хотя мы склонны также думать, что причина устройства этих костров вблизи лежащего покойника заключалась в веровании в очистительную и предохранительную силу огня. На это указывает, по нашему мнению, тот факт, что не только зажигали около покойника такой костер, но и клали затем труп на потухшие угли. Рядом с покойником клали, как при трупосожжении, разные вещи и ставили горшки с пищей, останками сожженных животных. Затем все это засыпалось землей, воздвигался курган46. Находимые в курганах арабские монеты XI века47 указывают нам на племя, хоронившее таким образом своих покойников. В XI и XII веках, по известию летописи, между Днепром и Сожем жили радимичи48. Простое погребение мы находим также и у дреговичей49, и у древлян50. Если мы перейдем теперь к северу от Днепра, в область озера Ильменя, на территорию ильменских славян, в Псковскую и Полоцкую земли, по обеим сторонам реки Двины, то есть, в области тех же кривичей, мы находим трупосожжение как преобладающий тип похорон, причем урны встречаются в курганах чаще, чем кострище51. Таким образом, при обрядах погребения или сожжения у русских славян курган насыпался просто из земли, причем для нашего вопроса не имеет значения, какая для этого бралась земля: песок, мергель, чернозем и т. д. Нам важно констатировать лишь одно, что восточные славяне другого материала, кроме земли, для сооружения могил-курганов не употребляли. Из приведенных нами фактов оказывается, что и в земле кривичей и радимичей при господствующем обряде встречаются случаи, и сравнительно довольно многочисленные, когда над покойником совершен был обряд иной, простого погребения (у кривичей) и сожжения (у радимичей и дреговичей)52. Мало этого. В области верховьев реки Западной Двины, Волги и Днепра мы также находим курганы с погребальным обрядом53. Из 28 курганов, разрытых на пространстве между Днепром, Вопью и городом Ельной, всего только один оказался заключающим в себе обряд погребения54. Но по правую сторону Днепра, по верховьям Западной Двины, наоборот, такой тип открыт во время одной экскурсии в 18 курганах. Стало быть, приходится думать, что на территории смоленских кривичей, по левую сторону Днепра, был похоронен случайно иноплеменник. Но далее является уже не случайность, а обнаруживается пребывание какого-то населения, которое следовало при похоронах обряду погребения. Затем, если мы обратимся к земле радимичей, то должны будем, кажется, признать, что обряд сожжения или принадлежал колонистам северянам, или появился у наших радимичей под северянским влиянием, потому что курганы такого типа расположены в южной части области радимичей, по берегам pек Беседи, Сожа и Днепра, то есть в соседстве с землями северян55, и только один случай трупосожжения мы находим между pеками Дрютью и Днепром (на высоте Дрютеск-Копысь)56, что может быть объяснено совершенно случайным погребением кривича или, пожалуй вернее, распространением кривицкой колонизации по верхнему течению реки Дрюти. Нахождение курганов с погребением у верховьев Днепра, Волги и Западной Двины заставляет предполагать существование этого похоронного типа и у кривичей. Действительно, факт простого погребения с насыпкой земляных курганов мы находим в области Западной Двины, в области древних полочан и ильменских славян. Такие курганы мы находим на берегах реки Волхова, около старой Ладоги57, в Витебской и Минской губерниях58.
Но рядом с этими памятниками славянской древности на обширной территории кривицкого племени мы замечаем несколько таких, которые отличаются своей особенностью, оригинальными чертами, резко отличающимися от присущих могилам славянским. Начнем наш обзор с левого берега Западной Двины. По берегам рек Начи и Уллы, впадающих в Западную Двину, тянется множество курганов, обложенных камнями59. Около города Логойска существуют они также в большом количестве60. На реке Березине, около города Борисова и далее на запад от этой реки встречаются могилы с каменными сводами над покойником или пепел от сожжения покрыт большим камнем. Подобные же могилы есть и на берегах реки Бобра, впадающего в реку Березину61. Вообще к югу от Западной Двины попадаются еще гробницы внутри земли без всякой насыпи над ее поверхностью. Иногда они обозначаются небольшой продолговатой фигурой из положенных камней или рядом камней вокруг на пространстве гробницы, а в головах стоит большой камень; иногда они покрыты большим камнем или плитой. Что касается внутренности гробницы, то она представляет собой четырехугольный ящик, продолговатый, из плоских больших камней или плит, вымощенный на дне камнем и покрытый одной или несколькими каменными плитами62. Если мы теперь перейдем на северный берег Западной Двины, то и там наткнемся на подобные же факты. В Витебской и Псковской губерниях существуют могилы, имеющие внутри камни или каменные камеры, покрытые сверху каменной же плитой63.
Иногда куча пепла покрыта только плитой64. По берегам реки Ловати встречается особый тип могил, носящих в народе название «жальников». Все эти курганы без исключения обложены по основанию рядом, а иногда и двумя рядами камней; внутри гробница состоит из груды камней, покрытых одним большим камнем в форме плиты. Эта постройка, по словам производившего раскопки, близко подходит к друидическому дольмену65. Снаружи характеристическою чертою являются правильные фигуры, по большей части, в виде кругов, прямоугольников или квадратов, сделанные из валунов или из огромных, торчмя стоящих, каменных плит. Иногда внутри, по бокам ямы, стоят две такие же плиты, причем величина их достигает до трех аршин высоты и до двух аршин ширины66. Таким образом, мы можем рассматривать указанные нами памятники как виды одного рода, так как отличительным признаком их является присутствие камней, каменных плит, внутри или снаружи могилы. Как мы видели, большой сравнительно материал, добытый при исследовании могил славянских, не дает нам этих характеристических особенностей, а потому приходится искать их в другом месте. Прежде всего, аналогичные только что описанным явления мы находим на юге России. Так, в Уманском уезде Киевской губернии существуют могилы, обставленные валунами довольно значительной величины, которые составляли круг67. Точно также в Александровском уезде Екатеринославской губернии некоторые могилы по окружности основания, а иные и по всей поверхности обложены камнем68. Оставляем вопрос о народности этих курганов как не входящий в наши цели, но не можем не указать на сходство некоторых из них с сибирскими, о чем говорилось археологами не раз69. Если эти похоронные памятники далеко лежат от территории кривичей, то взамен них мы укажем такие же и в местностях, ближайших к кривицкой области. В Бежецком уезде Тверской губернии мы находим круги торчмя стоящих камней, а иногда и сами курганы расположены в виде кругов, или встречаются целые кладбища, на которых в большом количестве стоят большие одиночные камни в наклоненном положении70. Поднимаясь далее на север, этого рода памятники располагаются по реке Луге и ее притоку Ордежу. И здесь они являются в виде могил, обложенных камнями по основанию, причем иногда стоят камни торчмя на самых могилах71. Тут мы попадаем уже в область финноугорских племен. С особенной силой выступает этот тип могил в области финского племени воти, входившего в состав Вотской пятины Великого Новгорода. Курганы воти обложены гранитными валунами; внутри могил также оказываются камни, причем покойник или прислонялся в сидячем положении к одному из камней, или последний служил ему изголовьем72. Другие финские племена, ливы и эсты, точно также обкладывали могилы камнями, или обозначали их фигурами из мелких камней на поверхности земли, причем иногда внутри устраивались камеры из плит73. В Финляндии сохранились предания о первобытном населении, чуди, которой приписываются могилы, построенные из камней74. Таковы показания археологические местностей, соседних с территорией кривичей. Те же факты мы найдем и далее, а особенно выдающимся является известный Ананьинский могильник в области древнего Болгарского царства: те же каменные плиты внутри, обкладка камнями снаружи75. Очень близко к перечисленным памятникам стоят могилы Сибири. Мы найдем там и огромной величины плиты, поставленные в наклонном положении на могилах в виде монументов, и могилы, обставленные торчмя стоящими камнями; видим там каменные плиты внутри самых курганов76.
Мы не решаемся из приведенных фактов делать вывод о племенной принадлежности могил с камнями, но нам кажется возможным вывести из них лишь одно заключение, что на территории кривичей, взятой во всем ее объеме, существовало в разные эпохи не одноплеменное население, а было разнородное, и если мы припишем одни признаки похорон славянам, то другие придется отнести на счет какого-то чуждого им племени77.
Несомненно, что до появления в Европе ариев эта часть света была уже занята каким-то населением, которому приписываются некоторыми учеными каменные орудия, находимые на всей европейской территории вообще и в частности на почве России78. В настоящее время все более и более устанавливается мнение, что таким первобытным населением была одна из ветвей урало-алтайского племени, именно ветвь чудская79. К такому выводу привело развившееся в широких размерах и притом глубокое изучение урало-алтайских и, как ветви их, финских языков. Прародиной чудского племени считается область у Алтайских гор и к северо-востоку от них по равнинам Сибири80. Мало-помалу чудское племя распространилось на огромные пространства и колонизировало Европу. Распространение его уже на европейской территории и интересно для нас, главным образом, со стороны вопроса о первобытном населении кривицкой области. Несомненно, что все пространство по среднему течению реки Волги, на восток от нее до Уральских гор, на северо-восток и север до Ледовитого океана и Белого моря, оба берега Финского залива и берега Балтийского моря заняты были угро-финским племенем. Как известно, к нему принадлежат частью еще существующие, частью исчезнувшие народцы: меря, весь, мурома, ливы, эсты, куры, финны в Финляндии, мордва, черемисы, карелы, зыряне, вотяки81.
Природа страны представляла все удобства для обширного распространения этого племени во все стороны, и, действительно, в доисторические времена мы видим существование финских поселений в таких местностях, где в историческую эпоху живут уже чуждые им арии.
Черноморские степи России некогда заняты были, как известно, скифами. Вопрос о племенной принадлежности этого народа решался различным образом. То видели в них монголов, то ариев; но раздавались голоса и в пользу их финнизма82. Нам кажется, можно признать лишь одно, что, судя по имеющимся историческим и лингвистическим данным, скифы, как и принимается теперь, есть термин географический, а не этнографический, и что в числе народов, скрывающихся под этим именем, были и финского происхождения. Таким образом, приходится допустить распространение угро-финского племени далеко на юг. Но не одно только это соображение приводит нас к такому заключению. В настоящее время на скифов устанавливается новый взгляд. Изучение дошедших до нас скифских слов и эпиграфического материала, заключающегося в надписях, открытых в развалинах черноморских греческих колоний, – заставляет видеть в скифах народ арийского в широком смысле, и эранского, или иранского, происхождения в тесном значении, то есть родственный, если не тождественный, с осетинами, и теперь живущими на Кавказе83. Оказывается, что угро-финны подверглись в доисторическая времена сильному иранскому влиянию, что доказывается присутствием осетинских корней и целых слов в угро-финских языках84. Мы не знаем, как далеко на север простирались скифско-эранские поселения: но можно, кажется, сказать, что угро-финское население спускалось далеко на юг, даже в нынешнюю Малороссию85.
Прежде чем следить далее за распространением его по Европе, нам необходимо сказать несколько слов по поводу одного весьма важного при решении подобных вопросов материала, именно топографической номенклатуры. Несомненно, пользование этим материалом с историко-географическими целями весьма опасно и не раз уже приводило исследователей к шатким выводам, но все зависит от того, для решения какого вопроса мы воспользуемся топографической номенклатурой. Применяли пользование ей для определения этнографических границ славянских земель путем подыскивания созвучных названий. Такой способ исследования не может, конечно, не привести иногда к неправильным заключениям. Так, наших кривичей мы можем отыскать и на территории Греции86. Географических названий с корнем крив мы найдем много и в области племени северян. Такие урочища, как Кривое озеро, Кривой рог, Кривичи, Кривка и т. д. могут ли указывать на границы распространения племени кривичей? Мы не знаем, какие причины создали такое имя для данного урочища; не есть ли данное имя простой выразитель главного признака данной местности? В силу родственности русско-славянских племен, каждое из них могло давать урочищам тождественные названия. Но отсюда еще не следует, что топографическая номенклатура совсем не может ничего дать исследователю. Она может сослужить важную службу, если мы пожелаем определить этнографическое распространение двух неродственных племен и направление их колонизации. В этом случае, соображения относительно пользования подобным материалом, высказанные очень давно Надеждиным, кажутся нам вполне основательными87. Не нужно доискиваться, что, собственно, значит каждое название; довольно, если определится его происхождение, если откроется, какому языку принадлежит оно. Мы думаем, что главное значение в топографической номенклатуре имеют названия урочищ, то есть гор, рек, озер, а не населенных местностей, так как судьба последних крайне изменчива, их существование и исчезновение с лица земли стоит в зависимости от множества случайностей, а между тем далеко не всегда новое поселение получает имя прежнего, хотя бы жители его были и старые. Но и новые пришельцы не изменяли старых названий у природных урочищ. В этом случае наблюдается, действительно, важное явление. «На всем лесном севере России, за реками и озерами, новгородские славяне до наших дней сохранили их первоначальные чужеземные имена, объяснимые только языком народов финского или чудского племени. Исключения так ничтожны, что славянам не удалось дать своих имен не только крупным рекам и озерам, но даже и мелким речкам притокам, запрятанным в самых глухих лесных трущобах. Обстоятельство это настолько существенно, что именами этих урочищ и в настоящее время можно определить грани земель, занятых финскими племенами, и выделить те земли, на которых славянские племена были и первыми пришельцами, и коренными жильцами»88.
Признавалось и раньше, что центральная Россия была некогда занята угро-финскими89 поселениями, но оказывается, что следы этого племени сохранились в топографической номенклатуре и гораздо южнее. Так, некоторые реки южной России носят имена, созвучные с номенклатурой северо-восточных областей90. В топографических названиях далее Курской губернии можно найти некоторые, объясняющиеся из угро-финских языков, не говоря уже о губернии Черниговской91.
Если мы теперь обратимся к западу, то увидим факты, указывающие на еще более широкое распространение угро-финского племени. Так, в языках датском, франкском, иберийском и баскском находят заимствования из языков финских92. В свою очередь финны взяли много слов у готов93. В топографической номенклатуре Германии, Италии и Франции находят следы пребывания там финнов в доисторическую эпоху94.
Если мы обратим теперь внимание на географическое положение кривицкой области, то окажется, что она лежит в середине этого обширного пространства, на котором, как мы видели, есть основание предположить расселение угро-финского племени в доисторические времена, а потому нельзя допустить, чтобы территория, лежащая на самом важном колонизационном пути, на соединении Волжской и Днепровской систем, осталась почему-то обойденной, не захваченной этим первобытным населением. И действительно, мы имеем данные, дающие возможность отвечать на этот вопрос утвердительно.
Считается несомненным, что большая часть рек с окончаниями на ва, га, ма, ра, са, ша и за носит имена угро-финские, изменившиеся в устах позднейших славянских колонистов и потерявшие всякий смысл, или переделанные для осмысления на славянский лад95. Никто не сомневается, что земли по реке Москве, Клязме, Угре, Жиздре и Оке принадлежали угро-финским племенам; но вместе с ними идут: Икша, Шоша, Руза, Пахра, Протва; подвигаясь на юг и юго-запад, мы найдем реки с именами: Пюмень, Мордвеза, Тюмень, Мышега, Клютома, Нугра, Таруса, Болва, Витьма, Вехра (Вахра), Удога, Езва и даже сам Сож едва ли объясним из языка славянского. Если от Москвы-реки мы двинемся прямо на запад, то попадаем к верховьям Днепра, а перейдя последний, достигнем двинского бассейна. Это местности, где, по сказанию летописи, находилось ядро кривицкого населения. Между тем и здесь угро-финны оставили следы своего пребывания в топографической номенклатуре. На этом пространстве от востока к западу мы находим имена: Желонга, Берега96, Исма, Рема, Вазуза, Костра, Сежа, Осуга, Вязма, Осма, Воп(ь), Вопец97, Надва, Обша, Ельма, Сапша; затем или реки, или поселения: Полга, Толва, Сига98. Перейдя затем к верховьям Волги, мы и тут найдем то же самое. Во-первых, самое имя Волга должно быть, как кажется, причислено к категории только что перечисленных. Тут же оказываются по обе стороны Волги: Симога, Серема, Цна, Емша, Тюдьма, Сорога, Млинога, Ажева. Приходится и верховье Поволжья считать областью угро-финской и удалить с нее кривичей как первоначальных насельников. Третий пункт, верховье реки Западной Двины, точно также не может остаться за кривичами. Уже имя Двина – не славянского происхождения99. Кроме вышеуказанных имен: Обша, Сопша, Емша, на пространстве между Западной Двиной, Торопой и Ловатью мы находим: Дапша, Перегва, Комша, Ока, Олио, Але, Насва. Даже новгородская река Шелонь носила некогда другое название – Сухона100. Если мы направимся теперь вдоль течения Двины, по ее северному берегу, то встретим имена: Ижма, Оша, Спастерей, Лосма, Перевза, Олола, Каруза, Иса, Оршо. Нам остается перейти на левый берег Западной Двины и на правый берег Днепра. Казалось бы, что тут мы должны попасть на территорию, чуждую по своей топографической номенклатуре всякому финнизму. Действительно, редко, в виде единичных случаев, но, тем не менее, и здесь попадаются аналогические имена. Встречаются Цна, Волма, Олса, Жижма и Вижна. Приводя эти факты из топографической номенклатуры, мы думаем, что воспользовались далеко не всеми, предоставляя полностью собрать их знатокам угро-финских языков, но предполагаем, что и приведенных данных достаточно для обоснования той мысли, что в отдаленнейшие эпохи славянское племя вообще не занимало той обширной территории, назначаемой для его европейской прародины, которой может быть признано лишь Прикарпатье в тесном объеме; тем более мы не можем признать за исконные области кривичей ни верхнее Подвинье, ни Поднепровье: нам приходится отодвинуть это племя далеко на юго-запад и исходным пунктом колонизации считать северо-восточные отроги Карпатских гор101.



