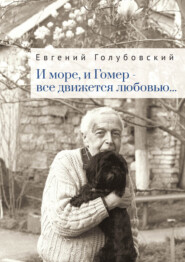скачать книгу бесплатно
Так у нас обращаются с историей, с памятью.
Думал об этом вчера вечером, когда принимал участие в презентации нового альбома «Одесса. 1941–1944. Неизвестные страницы», в авторский коллектив которого входят Михаил Пойзнер, Олег Губарь, Олег Этнарович и др.
Презентация в Литературном музее прошла достойно. Признаюсь, меня вначале смутила театрализация встречи, одетые в военную форму молодые ребята, потом выяснилось, что это военные реставраторы и поисковики. И запланированные концертные вставки, но оказалось, что всё сделано со вкусом, от ансамбля юных скрипачей, исполнивших мелодию «Темная ночь» до великолепного детского хора, тонко и нежно исполнившего песню Тони из «Белой акации» Дунаевского. И всё это придало разговору глубину и душевность.
Выступили все авторы альбома, объяснившие, что постарались дать читателю самому разобраться в том, как проходила оборона Одессы, какой была оккупация, чтоб не думали, что опереточная, как пришло освобождение. И всё это только на документах. Смотрите и думайте.
Пожалуй, прежде я мог бы утверждать, что нашему городу, Одессе, повезло – в литературе, искусстве, мемуарах о нем сказано так много, что «одессика» сама стала страницей великой истории, мировой истории. И всё же я мог так говорить, так писать прежде, считая, что В. Катаев и К. Симонов, Я. Халип и М. Рыжак, Г. Поженян и Л. Утесов, В. Некрасов и И Эренбург, к примеру, навсегда запечатлели Одессу в Великой Отечественной войне.
И только теперь, хоть и я сам писал о героях обороны, о подпольщиках и освободителях родного города, хоть пытался развенчать лживые легенды и ввести подлинные факты, так вот, теперь я убеждаюсь, что история Одессы, с 1941 по 1944 год была не то чтобы безликой, но всё же односторонней, она, эта история, не смела показать всю сложность, неоднозначность жизни людей и города в эти годы…
Что же побудило меня вернуться к истории Одессы времен Великой Отечественной?
Очень многое. Начиная с рассказов моей жены, что значила оккупация для её семьи, встреч с ветеранами, с Валерием Барановским мы сделали документальный фильм о 25-ой Чапаевской дивизии, кончая личными встречами с маршалом Петровым, вице-адмиралом Азаровым…
Огромное впечатление на меня произвел массив документов в коллекции Пойзнера.
На основе своей личной коллекции, на собирание которой ушли многие годы, Михаил Борисович Пойзнер создал альбом «Оккупация. Одесса. 1941–1944». Когда он вышел из печати и я, и сотни исследователей, историков Одессы (а М. Пойзнер – доктор технических наук), смогли увидеть трагическую и обыденную жизнь города времен оккупации, представленную, как говорят кинематографисты, – крупным планом.
Очень точное, аналитическое и поэтичное, предисловие, всего в одну страницу, написал тогда к альбому Олег Губарь. Понимая, что фотоальбом, составленный из фотографий людей, документов, открыток Одессы – это документалистика, Губарь одновременно убежден, что личное сопереживание судьбам, событиям, сам строй альбома, подбор коллекции делают его подлинным художественным произведением.
Позволю привести концовку этого блестящего эссе, делающего честь и автору предисловия и его другу Михаилу Пойзнеру, кстати, смело введшего в контекст книги и фотографии своих родных, и фотографии родителей друзей – тех, кто был связан с Одессой в те нелегкие годы.
«Нет, не может гуманитарная наука, – пишет Олег Губарь, – быть не художественной, не может она быть одним только снобистским знанием статистики, геральдики и прочего изощрённого крохоборства. И разве прошлое в нашей памяти, в нашем сознании предшествует настоящему? Это же так очевидно! Прошлое и настоящее в нас всегда рядом, по соседству. Более того, для многих прошлое впереди, им живут. Времена в самом деле не выбирают. Это они выбирают нас. Но – вопреки всему! – Михаил Пойзнер выбрал свое время. С осторожной надеждой сказать о нем правду».
Я думаю так же. И я мог бы подписаться под этим утверждением, так как убежден, что не поняв прошлое, не прожив его, не пропустив сквозь свои мысли и чувства, не будешь ориентироваться в настоящем, да и будущее может оказаться для тебя тем же прошлым.
Создавая новый альбом, его авторы, его дизайнер Леонид Брук, конечно же продолжили дело, начатое в первом альбоме. Я бы сказал, довели до совершенства. Альбому предпослана очень личностная, серьезная статья Михаила Пойзнера «Беда не к лицу Одессе»
А затем – одни названия глав – а текста авторского в них нет – это только и только документальные свидетельства войны, Одессы в войне – подтверждают, что из документальности вырастает художественный образ.
Итак, главы: «Утомленные солнцем», «Осажденный город», «Оккупация», «Освобожденный город». И под каждой из этих глав помещены жесткие и точные, а главное – личностные документы.
Потемкинская лестница в 1941 году. Сколько раз она будет появляться в альбоме, снятая любителями, советскими и румынскими фото- и кинохроникерами. И всегда будет восприниматься по-разному, как разными были эти трагические годы войны. И в освобожденной Одессе – огромный снимок, победившие солдаты Советской армии – коллективный снимок на Потемкинской лестницею Фото, ставшее плакатом.
А дальше – одна из многочисленных довоенных открыток «Привет из Одессы», групповой снимок на фоне портретов Ленина и Сталина, фотография всемирно известного скрипача – вундеркинда Буси Гольдштейна, пляжные, санаторные снимки, ещё ничто не предвещает трагедии. Но ещё страница, и вот уже рядом с одесситами – орудийные стволы, на Оперном театре – портрет Сталина… И вот так, страница за страницей, перелистываешь эти 200 страниц, бездна фотокомпозиций, на которых карточки на хлеб, пропуска в порт, эпизоды пребывания маршала Антонеску в Одессе, театральные афиши, адреса врачей… И лица десятков жителей Одессы из тех тысяч, нам неизвестных, но погибших в лагерях и гетто. Сгоревших в крематориях или павших на полях сражений…
Но если бы альбом был только мартирологом тысяч и тысяч одесситов, евреев и русских, украинцев и молдаван, немцев и греков, он отразил бы только один – самый страшный лик войны. Но рядом с трагедией шла будничная жизнь – афиши концертов Лещенко, трамвайные билеты, ученические табели с отметками, комиссионные магазины, врачи, исполняющие свой профессиональный долг, педагоги, ученики…
Я открываю наугад одну из страниц и вижу плакат: «Эвакуированные евреи! Регистрируйтесь сразу же на сборном пункте для эвакуированных. Улица Льва Толстого, 1». Сколько раз я стоял у этого дома, где ныне школа № 121, я ведь учился, заканчивал школу 107-ю, там же, на Льва Толстого. Вроде бы не про меня, но про меня… хоть мне повезло. Отец, тогда лейтенант Красной Армии. Отступая из Одессы, вместе с ещё двумя офицерами-одесситами добились разрешения забрать в военный поезд семьи.
Можно пересказывать и пересказывать. И о том, как работала Публичная библиотека, во главе которой стояла мужественная женщина А. Н. Тюнеева. Кстати, я хорошо знал её, философа, теософку. В память о ней у меня хранится с её автографом «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе Ивана Бунина. А сын её – красный офицер – собирал библиотеку о белой гвардии. За каждую такую книгу в 50-е годы можно было превратиться в лагерную пыль.
Я убежден, что у каждого этот альбом вызовет свои ассоциации. Но главное – он создан. И – хоть боюсь громких слов – это подвиг одессита, собравшего личные письма, документы тысяч людей, создавшего облик оккупированной Одессы, всмотревшегося в лица одесситов, сохранившего реалии той жизни в виде открыток, документов, этикеток, объявлений, приказов…
Спасибо, Михаил Пойзнер! Спасибо всем его коллегам, кто помог сделать его коллекцию альбомом для школьников и ветеранов, для краеведов и далёких от истории людей, но гордящихся, что они одесситы.
В ходе разговора об альбоме выступил и городской голова Геннадий Труханов… Говорил, что для него, для семьи, в которой он вырос, значил подвиг Одессы в Великую Отечественную войну. Много интересного говорил. И боль звучала в его словах, когда речь шла о беспамятстве, о вандализме.
Посмотрел, тираж у альбома по нынешним временам большой – 1000 экземпляров. Хотелось бы, чтоб он был в каждой библиотеке, в каждой школе. Прикоснувшись к альбому, ощущаешь, что он горячий, в нем пульсирует кровь, а не типографская краска, трудно с ним в руках оставаться равнодушным.
Цена свободы слова
Этот пост нужно было опубликовать вчера.
Но я уже написал вчера о Диме Романове и ставить материал ещё об одном журналисте в тот же день мне показалось неправильным
Лучше запомнится, воспримется, если о каждом отдельно.
5 мая, вечером – и так много лет – Валя, Аня и я шли в гости к Виталию Чечику и Ларисе Сикорской.
У Виталия 5 мая был день рождения. За столом собирались несколько друзей: Юра Владыченко с женой, Наташа Барышева с мужем, Юра Михайлик с Эддой…
Не только архитектор, но и кулинар Виталий был отменный…
Боюсь, что многие забыли этого человека.
А я, думая о своих грехах, помню, что в журналистику привел Виталия Соломоновича Чечика я, не представляя, к какой это приведёт беде.
И Лариса, и Виталий были архитекторами Уговорил их написать несколько статей про состояние архитектурных памятников Одессы. Написали. Мы опубликовали их в «Вечерке». Лариса продолжала преподавать, а Виталий, войдя во вкус, всё чаще спрашивал – о чем ещё написать, что волнует читателей.
Витя был абсолютно не публичным человеком. Даже в компании друзей он мог тихо взять в руки книгу и сесть в углу на стул, чтоб почитать, поразмышлять.
Редко вступал в споры, отмалчивался. Ощущение было очень надёжного, крепкого человека, которому можно доверить всё – деньги, ребенка, заботу о больном, но только не… расследования.
А вот в этом я ошибался. Да, кабинетный ученый, стеснительный, сверхинтеллигентный, но ему захотелось – действия.
Пришел как-то Виталий ко мне в кабинет, на 8-ой этаж, в «Вечерку» И в этот вечер я познакомил Чечика с Деревянко. Понравились друг другу. В Чечике была основательность технаря. Не общегуманитарные рассуждения, а колонки цифр, расчёты, доказательность. И Борис Федорович взял Чечика в штат, предложив заняться проблемами ЖКХ.
В почте редакции тема необоснованных взиманий денег звучала очень часто. Как-то я читал рассказ архитектора и художника Юрия Письма-ка, как он пришел жаловаться, что деньги платит, а в квартире ледник. И Виталий Чечик показал ему пакеты писем с той же самой жалобой, чуть ли не из всех районов города.
Неделями пропадал Чечик у тепловиков.
Выводы его были ошеломляющие. Все тарифы завышены. Нас элементарно грабят, нас, это каждого квартиросъёмщика.
Опубликована была серия статей.
Мэрия подала на автора в суд, требуя… миллион, как компенсацию за моральный ущерб. Но у Чечика были на руках документы и расчёты.
Вот тогда «неизвестные» и рассчитались.
Встретили Виталия в парадной его дома. Избили железными прутами… Не стесняясь, говорили, чтоб больше не писал… Это был 1997 год.
После больницы он вернулся в редакцию. И не испугался. И не оставил своё журналистское расследование.
Более того, его аргументированную статью опубликовала киевская газета. Вновь Эдуард Гурвиц подал в суд на газету. И вновь бы проиграл – у Чечика были скрупулезные расчёты. Его уже вызвали в Киев, на суд, это было ещё через два года, в 1999-ом, но поехать ему бандиты не дали.
Его «нашли» вторично. И вновь избили. Но на этот раз – смертельно. В реанимации не смогли спасти.
Если вы думаете, что нашли киллеров, определили заказчиков – ошибаетесь.
Смерть Виталия Соломоновича Чечика, моего друга, – не единственная расправа с журналистами в нашем прекрасном городе.
Так что свобода слова – это не прекраснодушные пожелания. Журналисты гибли от рук тех, кто боялся свободного слова – Борис Деревянко, Юлий Мазур, Володя Бехтер, Виталий Чечик…
Написал и посчитал – Виталий Чечик умер весной 1999 года.
Двадцать лет прошло.
Никто не понес наказание.
Одарён по-царски
Для журналистов из «раньшего времени» день 5 мая был профессиональным праздником. Вот и мне сегодня захотелось вспомнить о журналисте той поры, моём коллеге, моём товарище, которого два десятка лет тому знала вся Одесса.
У царского рода Романовых были несметные сокровища. Как никак, «хозяева земли русской». Но чего у них не было и быть не могло – «Золотого пера» одесского мэра.
Дмитрий Васильевич Романов никакого отношения к своим коронованным однофамильцам не имел, но человеческим и журналистским даром был наделён природой щедро, по-царски.
Мы познакомились с ним в 1973 году на Пушкинской возле редакции ТАСС-РАТАУ. Он мягко произнес – Дима, не акцентируя фамилию, тем более отчество.
«Вечерка» только создавалась. Дима пришёл наниматься на работу. Он не был из тех, кто перешёл в «Вечерку» из «Комсомольской искры», его никто не рекомендовал, он, что называется, пришёл «с улицы». Конечно, не с пустыми руками. С фельетоном, вернее, текстом, который считал фельетоном. Но в его биографии был шарм. Он закончил станкостроительный техникум, затем заочный филфак, но работал пожарником. И был предан этой профессии. И Борис Деревянко рискнул – взял никому не известного «технаря», отправив его в отдел писем (читай – фельетонов) к Семёну Лившину.
Сейчас, когда «Вечерка» приближается к 46-летию, я вспоминаю с нежностью и грустью те дни. Какие мы все были разные, как много нас объединяло! А более непохожих людей – по темпераменту, росту, умению острить, а то и злословить, чем Дима Романов и Сёма Лившин, казалось, и выдумать нельзя. И тем не менее именно они в четыре руки написали большинство фельетонов «Вечерней Одессы», составивших её славу.
Нередко подключались и две руки Вити Лошака. Две недели тому, в апреле 2019-го мы сидели с ним на даче, увы, не на фонтанских дачах нашей молодости, а в симпатичном ресторане «Дача» и вспоминали и Семёна Лившина, и Дмитрия Романова… Они с нами навсегда…
– А помнишь коронную фразу Димы – «у него одна беда, он ходит всегда по одной стороне улицы, а деньги по другой»
– А помнишь, как вечно Лившин и Романов играли в доброго и злого следователей. Дима с его чеховской бородкой, всепонимающим взглядом, как бы гарантировал, что вас подставили, всё образуется, а Семён задавал жесткие вопросы…
Иногда я попадаю на Тираспольскую площадь. Всё изменилось вокруг. А каким замечательным местом для любителей вина и юмора был подвал «Антилопа-гну», который мы, шутя и веселясь, открывали в первоапрельский праздник. Мне было приятно, именно я придумал друзьям название для их сатирического отдела, привел к ним художницу Нину Никонову, которая нарисовала плакат «Антилопы-гну». Правда, Нину на этом я потерял – влюбилась в Диму Романова, но это происходило со многими дамами…
Но Тираспольской площади на открытии кабачка пели барды, звучали шутки…
Именно там Дима прочел один из лучших своих фельетонов – «Принудительное адажио», написанный в соавторстве с Семёном Лившиным. Это была традиция и способ самозащиты.
«Что делает хозяин, когда в окне вылетает стекло?
Если он умелец-золотые руки, он берет в эти руки алмаз, из правого кармана – стекло, из нагрудного – замазку. И, глядишь, через полчаса всё в порядке.
Но этот хозяин был не умелец, а наоборот. Поэтому он достал из правого кармана три рубля и робко позвонил в ремонтно-строительную контору».
Надеюсь, вы ощутили стиль авторов, восходящий к Ильфу и Петрову. А темы могли быть разнообразны, как жизнь «Привоза» или милицейского участка, «Скорой помощи» или ЗАГСа. Не помню, пришлось ли Диме для фельетонов играть роль новобрачного. Но «Скорая помощь», его брала, увозила и показывала все возможности советской медицины.
Рассказы о медицине и её героях были любимым устным творчеством Димы. Рядом с нашей дачей на Фонтане была дача замечательного хирурга Якова Ермуловича, с которым мы все дружили. Вот тут Дима мог за рассказы получить не только «Золотое перо», но и золотой скальпель, но он как-то не стремился к этому. Его увлекал фантазийный, смешной сюжет. И уже никто – ни Ира Пустовойт (его уже не первая жена), ни Витя Лошак и Вера Крохмалева (его друзья) – не могли понять, где вымысел, где реальность.
Дима был очень одесским человеком. Родился в 1943 году, в оккупации, притом, что мама его была еврейкой. Пряталась, рисковала жизнью каждую секунду, но полюбила, но родила ребёнка. И выходила, вынянчила. Я знал маму Димы. Она в семидесятые годы работала кассиром в рыбном магазине. Милая, добрая женщина. Вроде бы ничего героического, но с сильной волей, с пониманием, что хорошо, что плохо. И нельзя переступить. Это унаследовал у неё Дима. Как и чувство иронии, самоиронии.
Однажды поздно вечером Дима и Ира привели к нам на дачу своего гостя из Молдавии, шепнули, что это очень важный и нужный им человек. На стол поставили молдавское вино. И Дима начал бесконечную импровизацию о творческом потенциале «Вечерки» и хозяина дачи. Он так живописал и гиперболизировал все свои оценки, что гость из солнечной Молдавии с каждым Диминым словом чувствовал, будто пребывает в обществе каких-то легендарных людей. Длилось это долго. Гость наконец встал, вывел меня с веранды в сад и проникновенно попросил: «Пожалуйста, покажите мне, где вы пишете!». Я решил, что это молдавская застенчивость и деликатность, и гость пользуется эвфемизмом. Ни на минуту не сомневаясь в истинном желании гостя, я подвел его к дачному туалету и распахнул перед ним дверь…
Как обиделся на меня именитый гость…
Я быстро понял, что дал ужасную промашку! Дима хватался за голову, но в глазах его играли весёлые чёртики.
Таким весёлым, неугомонным я видел Романова и через годы, когда он работал в «Труде», в «Круге новостей».
Как-то не думалось о наградах, больше – о сражениях. В его жизни их было превеликое множество. И ведь героями фельетонов были не токмо работники ЖЭКов. Случались битвы и пострашнее, помню, сколько крови Романову и Крохмалевой стоил фельетон о набиравшем тогда силу нынешнем нардепе… А как вместе с Семёном Лившином им удалось снять с работы всесильного главврача Еврейской больницы. Уже был написан фельетон, уже Деревянко подписал его в номер, но… вмешались какие-то «могущественные» защитники и фельетон в тот день не вышел. Но у «Вечерки» тоже были друзья, ей покровительствовал одессит, зав. отделом фельетонов «Известий» Владимр Надеин. И тогда фельетон появился в «Известиях». Спор с местным партруководством «Вечерка» выиграла, а не проиграла.
Возглавлял в «Вечерке» Дмитрий Васильевич и отдел экономики. Потом его заменил в отделе Игорь Розов. Думаю, и он многое мог бы рассказать о совместной работе с Романовым. Они по-настоящему дружили.
В 2003 году один из фундаторов «Вечерней Одессы» – Дмитрий Васильевич Романов – ушел из жизни. За две недели до дня рождения, до шестидесятилетия. Не победили рак в двадцать первом веке. Но среди первых, кто получил «Золотое перо» мэра Одессы за 2003 год, – его фамилия, за вклад в журналистику Одессы. За то, что «Вечерка», созданная Борисом Деревянко, стала действительно одесской газетой, которую знали и любили во всем Советском Союзе.
Не умеем мы распоряжаться своим богатством – собрать бы все фельетоны, очерки, статьи Дмитрия Романова, воспоминания о нём, честное слово, книга бы вышла голубых кровей.
Сейчас в «Вечерней Одессе» создан славный музей истории газеты. Нашелся бы молодой журналист, кто бы пролистал газету за прошедшие годы, составил бы такой сборник, думаю, и Виктор Лошак, и Вера Крохмалева, да и я написали бы для него предисловие. Газеты действительно живут один день.
Память о людях долговечнее.
Праведница
Нарушу сложившуюся традицию.
В этот день, 22 июня, сколько бы ни прошло лет от 1941 года, мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной, выживших в сраженьях, победивших.
И я много писал о воинах. Не о своих родных, не о дяде, погибшем в первый месяц войны, не о втором дяде, тяжело раненом при обороне Москвы, не о двоюродном брате, расписавшемся на Рейхстаге, не об отце…
В те годы, что работал в газетах, не принято было писать о родных, даже о близких знакомых.
И всё же одна тема, одна судьба живет в моем сердце многие годы. Что-то, где-то, как-то писал. Но не так, как хотелось.
И всё время не отпускает чувство вины.
Не воздали по заслугам человеку.
И вот сегодня, 22 июня 2019 года, я хочу напомнить о подвиге …немки.
Да, да. Немки Анны Мюллер.
Начать придется издалека.
Анна Мюллер родилась в последнее десятилетие XIX века в Австро-Венгерской империи. Мюллер – это фамилия по мужу, за которого вышла замуж, с кем в начале XX века переехала в Америку. Дела у молодых пошли хорошо, подняли дом, обзавелись хозяйством, родили двух дочерей – Елену и Жозефину… Много работали, хорошо зарабатывали, но Джозеф, муж Анны, увлекся социалистическими идеями. И когда читал про голод в Советской России, про неурожаи, детдома, принял решение – продать всё имущество, купить на эти деньги трактора и отправиться помогать строить социализм.
В 1924 году Джозеф и Анна осуществили свой план. Определили их в совхоз под Херсоном, трактора, естественно в сельхозтехнику, рулоны ткани на платья детишкам в детдома, но бывшие владельцы давали советы, решено было их отселить в Одессу, чтоб не мешали хозяйствовать…
Так в 1928 году Мюллеров поселили в одноэтажное барачное здание, на Белинского, 6, в две комнатки (туалет во дворе). Описать квартиру могу в деталях. Я многократно в ней бывал с начала шестидесятых годов, приходил сюда к своей подружке Лине Шац (сегодня это известный итальянский и русский поэт и художник Эвелина Шац), тут общался с ее мамой Еленой Осиповной, тетей Жозефиной Осиповной, с бабушкой – Анной Мюллер (мы обращались к ней – Анна Матвеевна).
Так что историю этой семьи знаю не понаслышке.