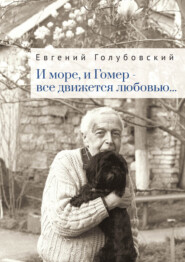скачать книгу бесплатно
Я советую.
Концерт
«Одесситы бывают рассеянные и сосредоточенные.
Рассеянные – они рассеяны по всему свету, а сосредоточенные – сосредоточены только в Одессе» – если вы увидите на футболке синего цвета эту фразу Михаила Жванецкого, – знайте, этот человек побывал 21 марта на концерте Михаила Жванецкого.
Вчера состоялся юбилейный вечер в Одессе. После Запорожья, Днепра, Киева, дома – в Одессе. Мы помним – и как ждали это выступление, и как пытались сорвать, недопустить концерт так называемые «активисты», пытающиеся превратить Одессу в коцюбеевку.
Не вышло. И слава Богу. Есть народ Одессы. И то, что сегодня в моей ленте благодарность Наташи Жванецкой мэру Одессы Геннадию Труханову, мне кажется важным. Именно он сказал: «Приезжайте. Всё будет в порядке». И отвечал за свои слова.
Выступать в Оперном театре чрезвычайно трудно. Одинокий человек на огромной сцене перед фантастическим по объёму залом.
Вспомнил слова Ахматовой о Блоке: «Трагический тенор эпохи»
А тут – не тенор, не трагик… Сатирик? Скорее – философ. Но зал в течении минут стал единым организмом, он дышал воздухом свободного слова. И тогда, когда стоя приветствовал в начале, и тогда, когда стоя не отпускал в конце, и когда взрывался аплодисментами на каждую реплику.
Читал Михаил Михайлович, как новые, так и старые эссе, фразы, жизненные наблюдения. И Одесса разговаривала с Одессой. Вот где было полное взаимопонимание.
Здесь не нужно было объяснять, что значит – в консерватории нужно что-то подправить. Знали, помнили, понимали…
Действительно, какое количество фраз Жванецкого ушло в народ. Борьба невежества с несправедливостью проходила и проходит на наших глазах и повсеместно.
А наши споры. Как часто, следя за дебатами, я повторяю фразу:
«Если ты споришь с идиотом, то вероятно, то же самое делает он».
Было у меня ощущение, что в первом отделении Жванецкий волновался. И всё равно, читал превосходно. Иногда переходя на привычную скороговорку, иногда замедляя темп речи, давая возможность насладиться фразой, как бы обкатать её у себя на языке.
А во втором отделении это был совсем уже раскрепощённый человек, радующийся взаимопониманию с публикой, с залом, а ещё точнее, с Одессой.
Между эссе, между монологами писатель разговаривал со слушателями, вспоминал эпизоды своей работы в Одесском порту, встречи в Одессе.
Если бы этот юбилейный концерт нужно было бы как-то назвать, предложил бы короткое и точное – «Я дома».
Сказал – юбилейный. Да, мы все поздравили Михаила Михайловича с 85–летием. Он и сам много говорил о старости. Радуясь, что так много увидел. «В России нужно жить долго», – написал когда-то Корней Чуковский. Опыт Жванецкого тому подтверждение.
Но по яркости выступления, по отточенности мыслей перед нами был зрелый, а не старый человек, не потерявший вкус к жизни.
И сейчас он с той же убеждённостью говорит:
«Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах».
Из нового, что прочитал Жванецкий на вчерашнем вечере, мне кажется, войдет в его книгу лучших текстов эссе «Что я люблю?».
Сразу же вспомнил Высоцкого – «Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор»…
Настроения совпадают. Не любит Жванецкий начальство, не любит предательство…
Попробую процитировать пару строк по памяти:
«Люблю море гладкое.
Море бурное уважаю, называю на «Вы».
Шутить в его адрес не намерен.
Море слишком злопамятно, как и мой кот…
Люблю, когда проходит боль и не люблю, когда проходит время…»
Это эссе Михаил Михайлович подарил нашему альманаху «Дерибасовская-Ришельевская» и оно будет опубликовано в ближайшем, июньском номере.
Большой, двухчасовый концерт. Мы выходили из театра на Ланжероновскую, где рядом со звёздами в честь Бабеля, Ильфа и Петрова, Катаева и Олеши, есть звезда Жванецкого. Радостно ощущать себя его современниками.
Человеку, который только что сказал:
«Как кому, а мне нравится думать»
Подхватим, превратим в эстафету – давайте думать.
Познавший одесский «Двор»
Девятого марта писателю Аркадию Львову исполнилось 92 года.
Написал письмо, поздравил его, а Михаил Пойзнер позвонил в Америку, пятнадцать минут разговаривал, передавал приветы, а потом позвонил мне, рассказывал, что Аркадий и сегодня, в 92 живет мыслями об Одессе.
Своим «Двором» введенный во дворянство.
Песенка Булата Окуджавы так легко переосмысливается в судьбе Аркадия Львова. Двор в Авчинниковском переулке, где прошли все его одесские годы, стал не только темой, но и смыслом его творчества. Роман и одесские рассказы, как бы воскресившие южнорусскую школу, ввели его в большую русскую литературу, в её «дворянский сан».
В середине 60-х годов Аркадий Львов был единственным в городе прозаиком, кто чувствовал Одессу, любил её, понимал одесский язык. И, естественно, его почти нигде в родном городе не печатали.
Почти… Потому что была такая газета, как «Комсомольская искра», которая делала вид, что не понимает «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе».
Каждый приход в нашу редакционную комнатку, на Пушкинской, 37 Аркадия Львова превращался в спектакль. Там сидели Саша Варламов, Юра Михайлик и я, но в эти часы туда перемещалось половина редакции. Как Аркадий умел пародировать голоса, интонации одесских писателей. Рядом в кабинете были уверены, что слышат Юрия Трусова, Юрия Усыченко, Григория Карева, объясняющих товарищу Львову, что нет места для него в Союзе писателей, нет и никогда не будет…
Хохот стоял такой, что приходили машинистки и переводчицы узнать, что произошло.
Это была единственная редакция, где Аркадий чувствовал себя как дома. А когда мы публиковали главами его повесть «Жизнь и смерть Чезаре Россолимо», к каждой подаче приносил иллюстрацию Олег Соколов. Два «изгоя» составили прекрасный тандем.
И редакторы В. Николаев, Е. Григорьянц, И. Лисаковский, сменяясь, как эстафетную палочку, передавали газете прозу Аркадия Львовича Бинштейна, укрывшегося под псевдонимом «Аркадий Львов» от бдящего ока цензуры.
А потом Аркадия Львова полюбила Москва. Конечно, не вся Москва, но В. Катаев, Б. Полевой, А. Твардовский, К. Симонов. Этого уже было достаточно, чтобы печататься в Москве, в самой многотиражной газете «Неделя», быть принятым в московское отделение Союза писателей, но было недостаточно, чтобы получить «красную корочку Союза писателей», а это было обязательным в те времена: принимать должны были по вертикали – Одесса – Киев – Москва.
Одесские прозаики не замечали своего коллегу, а когда он им слишком надоел пребыванием в столичной литературе, пошли доносы, один другого страшнее. Аркадий Львов, докладывали его коллеги, – главарь сионистского подполья в Одессе, представитель клуба «Бабель» в Варшаве.
Много позже, разговаривая с польским литератором, Львов узнал, что клуб писателей в Варшаве размещался на Вавилонской улице, а от Вавилонской до Бабеля – взмах пера…
Позднее, после четвёртой «беседы», генерал Куварзин, возглавлявший одесский КГБ, сквозь зубы скажет ему: «Не подтвердилось». И, тем не менее, его изгнали из родного города. Хорошо, что к тому времени его уже знали в Европе, была написана первая часть романа «Двор»…
Одно из самых страшных ощущений, которое он рассказал мне в одном из интервью. Многие годы его мучил один и тот же сон.
Хоть рукописи ему разрешили вывезти, таможенник по листу разбрасывает в аэропорту книгу. К молодому офицеру подходит сослуживец, ветеран, и тихо говорит: «Ты совсем очумел? Ведь ты человеческие мозги пускаешь по ветру!» И помогает сложить оставшиеся листы в портфель…
Разные были люди. Это всегда знал, всегда помнил Аркадий. И его эмигрантские рассказы не желчные, а мудрые, как и велит Одесса.
В эмиграции были дописаны второй и третий том романа «Двор», принёсший ему успех, славу, награды. Вот только два отзыва.
Нина Берберова: «Аркадий Львов – явление уникальное в американском, да и не только американском русском зарубежье…».
Айзек Башевис Зингер, лауреат Нобелевской премии: «Двор» – наивысшее достижение Аркадия Львова и, одновременно, одно из самых фундаментальных произведений современной литературы».
Кстати, название – «Двор» – ему подсказал Константин Симонов. Увидев здесь метафору, двор, как отражение империи, со своим маленьким сталиным, своими доносчиками, своими жертвами, общими страхами…
В 1976 году Аркадий Львов покинул Одессу. Работал в Вильсоновском центре, Гарвардском центре, но, прежде всего, писал. С 30 ноября 1976 года его голос зазвучал на радио «Свобода». Он работал для русской и украинской редакции, так как знал и языки, и проблематику. И за эти годы, кроме создания рассказов, романов, писатель непрерывно работает на «Свободе». Он выпустил 8000 программ – это 20 000 страниц текста!
В 1990 году, когда появилась возможность приехать в СССР, он прилетел в Москву, а затем в Одессу. Родной город притягивал его своей легендой, своей историей. Это была основа его литературы, здесь жили герои его «Двора».
Сколько раз он приезжал за эти годы в Одессу – не пересчитать. Посол мира. Посол экономических отношений. Посол литературы. Когда-то секретарь обкома партии Лидия Всеволодовна Гладкая, иронически улыбаясь, говорила ему, что писатели жалуются – он «непристойно много пишет». Отшутился и Аркадий: «Жизнь не удалась, нужно работать на бессмертие».
Помню, в декабре 2002 года, он вновь побывал в Одессе. Решением жюри при горсовете стал одним из «одесситов года». Это для него почётно. Ведь в основе – жизнь его двора, век его двора.
Привозил свой гонорар на создание памятника Бабелю. Выступал во Всемирном клубе одесситов.
«Двор» – в последний раз, когда мы виделись в Одессе, – всё ещё не был окончен. Но роман будет завершён. Это цель жизни. «Двор» возвёл его в литературное дворянство. Он отплатил ему тем же, прославив Одессу, Авчинниковский переулок, бабушку Малую на весь читающий мир.
Как-то с дочкой зашел в магазин «Сантим» на Троицкой, зады которого выходят в Авчиниковский переулок, и увидел в подвальном этаже, отделе вин, большую металлическую табличку в честь Аркадия Львова, прославившего эти места. Подумал – вот такому признанию, конечно же обрадовался бы Аркадий.
Да и я за него порадовался.
В Одессе вышел шеститомник Аркадия Львова.
Издательство Ивана Захарова в Москве выпустило отдельной книгой три части «Двора». Можно уже жить с гонораров, со славы.
А писатель «непристойно много пишет». И в памяти его голос на «Свободе», и знакома с ним каждая семья, новые поколения семейств его двора.
Каждый писатель выбирает для себя цель.
Кто – развлекает, кто – учит, кто – просвещает.
У Львова своя миссия: вернуть Одессе её образ, её славу.
Пожелаем же ему долголетия.
И будем ждать четвертый том «Двора».
И читать его прекрасную, пахнущую акацией одесскую прозу.
«Тщательнее»
Сегодня 85 лет Михаилу Михайловичу Жванецкому. Это значит 60 лет творчества. Непрерывного. В прямом смысле – ни дня без строчки. Поздравляем. А ещё точнее – пытаемся осмыслить.
Тщательнее.
Можно ли в одной небольшой книжке написать всё про нашу жизнь – и советскую, и послесоветскую, как нам объясняли – перестроечную, и нынешнюю, которую уже никак не называют, разве что по цветам предлагают определяться: бело-голубые, оранжевые, а тут тебе и красно-черные, и желто-голубые и белые настолько, что ищешь рядом коричневых.
Я бы и сам сказал, что нельзя.
Никакая самая разбританская энциклопедия нашего многоголосья и многоцветья не выдержит. И ошибся бы, так как всё про нашу эпоху рассказано в книге Михаила Жванецкого «Тщательнее».
Признаюсь, я прочитал её уже несколько раз, она небольшого формата, каких-то 446 страниц, и тексты в ней подобраны миниатюрные, такие, что без очков кажутся стихами, а в очках – афоризмами. Читать её можно с первой страницы до последней, и с последней – до первой, будто написана она одновременно на русском и на иврите.
И, что удивительно, понимаешь не только слова, но и смыслы, а, верней бессмысленность нашей жизни.
А, может, всю эту книгу народ написал, но чтобы в органах не выясняли кто, что и почему – поставили название этого народа – Михаил Жванецкий. Подумал и передумал. Не умеет так писать народ, ему автор нужен, даже для «Слова о полку Игореве» две сотни лет автора ищут.
Мог бы рассказать, кто такой Михаил Жванецкий. Но в Одессе есть чуть ли ни миллион человек, которые утверждают, что они с ним «на ты», что пишет он не для чужих дядей, а именно для них – всемирного содружества одесситов.
Хотелось бы поверить, но вспоминается фраза, давшая название всей книге:
Тщательнее надо, ребята!
И грустно становится, что это не только про москвичей, киевлян, но и действительно про нас, одесситов, при всей нашей смекалистости и легкомыслии.
Можно было бы на каждом сайте одесситов из дня в день печатать колонками афоризмы (стихи в прозе, парадоксы) автора. Но если мы смекалистые, то должны сообразить, что есть авторское право, есть закон. А вор, даже литературный, должен сидеть в тюрьме.
Испугались?
Правда, и по этому поводу у Михаила Жванецкого особое мнение.
«Наш человек смерти не боится, ибо не жил ни разу».
Я уже вижу, как много читателей готово со мной поспорить.
Не с Жванецким, я из его 446-страничной книжки цитирую всего десяток фраз. Но я считаю, что и их достаточно, чтобы мы поняли, как, где и с кем живем:
«Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки».
При чем тут колбаса? А разве диапазон между – лучше тогда или лучше теперь – не измеряют часто колбасой? Правда, Жванецкий предлагает ещё один точный измеритель времени:
– Что такое без четверти два всё время?
– Это манометр.
Вот по манометру и прожили сто лет. Михаил Булгаков утверждал, что наших людей (думаю, он имел в виду и одесситов, он приезжал в Одессу в 1924 году) испортил квартирный вопрос. Жванецкий с ним не спорит, он находит свою формулу:
«Квартира уже давно важней женитьбы и сильней смерти».