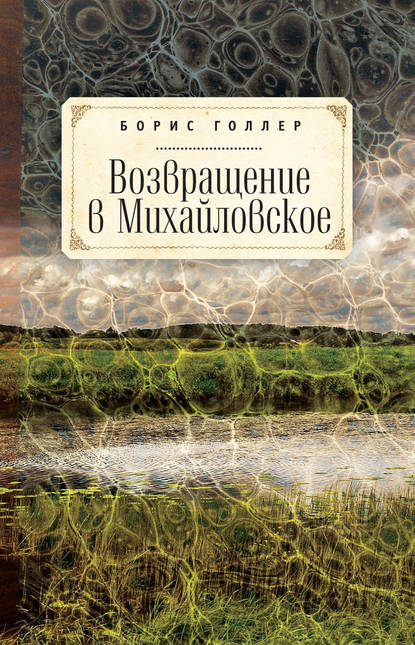
Полная версия:
Возвращение в Михайловское
Я уже не говорю про девять месяцев лежания в темной утробе, в сырости – и в мрачной неизвестности – что из этого выйдет. (Он поморщился, будто отведал лимона.) Мне с детства кажется, я помню это тоскливое положение – и оно вызывает у меня дрожь. Вам известен каламбур – как один зародыш, в утробе – спрашивает другого: – Как по-твоему? Там, за этим самым рождением – еще есть жизнь? – Что ты, – отвечает другой, – оттуда ж никто не возвращался!
В другой раз он попытался развить ту же тему еще открытей и беспощадней…
– Бросьте, Пушкин! Не знаю, как вы – я – дитя любви! Моя матушка по сей день любит отца, как кошка! Сиречь… акт моего зачатия никак не мог быть не приятен для обоих. Напротив… он наверняка доставил естественное удовольствие обеим сторонам. Воспитание и скромность не позволяют мне представлять себе подробности… Простите за откровенность! М-м… Моя благодарность? – вопрос тает сам собой! Кроме того… все родители на свете стремятся иметь детей из эгоистической склонности: во что бы то ни стало встретить в них продолжение свое. И очень тоскуют, если это продолжение – не чудится им схожим.
Что это было? Власть… да, именно – власть! чего-то более прочного и более органичного, чем он сам!.. – сейчас, в дороге, мимо осевшей на склоне татарской деревушки, – эта мысль о чьей-то власти над ним впервые показалась неприятна ему. Он вспомнил, как в Юрзуфе слышал нечаянно обрывок разговора генерала с Николаем-младшим: – Александр так огорчает меня своей холодностью!.. (речь шла о старшем сыне). – С появлением Александра-гостя естественно разговор прервался. Как было сказано? «Огорчает» или «страшит»?
Неужто этот стиль, эта бесконечная отвага ума – в прозрении и отрицании – были лишь холодностью сердца? – он терялся в раздумье.
Раевского Александра раздражала даже слава его семьи. Он не терпел Жуковского. «Певец во стане русских воинов» существовал для него лишь как повод для издевок. «Среди прочего это – плохие стихи! – говорил он. – И хуже того – плохие чувства!»
– Бедный отец! Его посвятили в римляне, хотя он сам не пошел дальше древнего грека, женившись на гречанке!
– «Раевский, слава наших дней – Хвала! Перед рядами – Он первый грудь против мечей – С отважными сынами…» Жуковский, кажется, ваш друг? Скажите ему, что это – полная глупость! Во-первых, непосредственно в бою нас не было – ни меня, ни брата. В самом деле. Отец действовал под Дашковкой славно. Хотите звать его героем? Охотно допускаю. Только… Никаких сыновей он в бой не выводил. Это петербургский анекдот. Вы не представляете – сколько в то время долетало анекдотов с полей сражений до столичных болтунов, не нюхавших пороху – но зато с восторгом мусоливших все, что доходило до них – на ходу все изменяя и перевирая. Мне шел семнадцатый год, и я был уже здоровый верзила – как отец мой мог поднять меня на руки? Да – еще шествуя во главе войска, да еще вместе с братом – хоть тот был поменьше. Хотите правду? Отец вообще отослал меня с поля боя – под каким-то предлогом. Кажется, с донесением – кое, впрочем, никому не было нужно. А братец Николай в это время в лесу собирал ягоды. Долетевшая пуля пробила ему панталончики. А если совсем руку на сердце… никто не поймет, зачем нас отец вообще брал с собой в это сраженье. Я как воин тогда еще ничего не стоил, брат – тем паче. Разве чтоб пощекотать нервы нашей матушки – очередной раз, либо очередной раз испытать ее любовь. Она, конечно, безумно волновалась… Она ж не знала еще, что я, как никто другой из детей – вовсе не оправдаю ее надежд! Ах, если бы меня убило под Дашковкой! Как бы меня вспоминали! Такой чудный мальчик! Надежда семьи! Верный продолжатель отцовской славы!..
…и при этом смеялся – каким-то, чуть не утробным смехом. Так смеются маски на столичном балу, чтобы тотчас раствориться в толпе. (Нечто демоническое?)
Александр – который Пушкин – лишь после поймет, что… Впрочем, об этом дале. Мы не знаем – где он едет сейчас. Среди горных кряжей, где сухой красноватый цвет камней сливается невольно с рыжеватым руном овечьих стад на камнях (Крым) – или по лесной дороге, где мокрые деревья при первом же ветерке щедро осыпают его каплями прошедшего дождя (Михайловское). Мы знаем только – что он вспоминает… И что духовный облик Раевского-старшего – сына, разумеется – отложился в нем настолько властно и прочно, что на какой-то момент стал мешать его собственному эго… или даже мешаться с ним.
К стихам Раевский относился заранее подозрительно. Как? Самое нужное слово – или самое важное – может быть заменено другим, если не в рифму или не входит в размер?.. Это так же искусственно, как в опере, где обычные слова почему-то должны выпеваться. Смешно и только! – Самое интересное, что Пушкин почти соглашался с ним. С ним бывало трудно не соглашаться. Обычные вещи – и достаточно спорные – принимали в его устах некий совсем уж непререкаемый вид. И после его слов казалось странно, что кто-то мог думать иначе. Стихи самого Александра Раевский не хвалил, а как бы принимал. Он не переносил чтения стихов вслух – то есть, чтоб ему читали (он твердил, что поэты чтением украшают собственные вирши) – и всегда читал сам, и Александр с трепетом ждал его суда. Приходя в гости к Александру (если предстояло чтение) – Раевский падал на койку хозяина, всегда на спину, и ждал, а Александр подносил ему листки – и тот читал лежа, вздернув тонкие длинные ноги в брюках со штрипками, в темных ажурных носках – и, чаще, заложив ноги – одна за другую. Так что сами эти ноги торчали в воздухе – и были уже важнее стихов.
Однажды… это было много поздней, в Одессе – когда Александр сочинил уж свой «Фонтан» – поэму, которую ждал особенный успех, Раевский, как всегда, появился у него и, узнав, что предстоит знакомство с чем-то новым, возлег на кушетку и протянул руку – словно за неизбежной данью. Нельзя сказать – читал он серьезно, не пробегая глазами – но погружаясь в чтение… Очки застывали в эти минуты на его холеном удлиненном носу… Вдруг он рассмеялся. Смех был жесткий, колючий, долгий…
– Хотел бы узнать, что так насмешило вас? – спросил Александр, бледнея и теряя голос…
– Да вот тут у вас один пассаж! – Раевский небрежно ткнул пятерней в рукопись. – Никогда не читывал подобной чуши!.. – и еще посмеялся всласть. Но видя вытянутую физиономию автора…
– Тут у вас говорится… «Он часто в сечах роковых – Подъемлет саблю, и с размаха – Недвижим остается вдруг, – Глядит с безумием вокруг… « – как вы это себе представляете? Вы не были никогда в бою. А вам приходит шальная мысль описывать сражение, да еще сабельное! Наиболее тяжкое. Да если б ваш Гирей – или как там его – на секунду задумался и остановился… – он рассмеялся коротко и почти с жалостью к поэту.
– В бою – паче, сабельном… вам не снести головы – ежли вы не снесете ее кому-то другому! А «оставаться недвижным», «шептать» что-то… И как это можно – «глядеть с безумием» – не объясните? Вы совсем не знаете жизни, мой друг! Вы гадаете об ней! М-м… Не всегда удачно!
Александр вдруг расхохотался сам – легко и беспечно, согласился без споров. Ну, правда! Конечно, все так. Только… Стихи есть стихи. Им вовсе необязательно прямое сходство с жизнью… – И оставил все как есть.
– Да пусть себе! – бросил он с небрежностию. – Да пусть себе!.. – на том все и кончилось.
Зато, как Александр (повторим, порядком избалованный к этому времени собственным талантом и согласным «признаний хором») радовался – если на какие-то из его стихов Раевский, так вот, валяясь на кушетке – бросал через губу: – А это – ничего… пожалуй, неплохо!..
И странно! Чем неприятней было временами какое-то из высказываний Раевского – Александр сознавал, что рвется услышать это снова…
Еще таинственней для него – а тайну мы всегда тщимся разгадать, уж так мы устроены люди, – было отношение Раевского к женщинам. Как-то, еще на водах – в самом начале их знакомства – они повстречали у источников даму, которая понравилась обоим, и они несколько дней невольно и терпеливо высматривали ее среди других представителей «водяного общества», – красивую, породистую с необыкновенной осанкой, словно сошедшую с картины мастеров болонской школы, и откровенно пытались обратить ее внимание на себя – особенно, Александр – он был моложе… – Но взгляд ее скользил вдоль прочих лиц настолько рассеянно, что казалось, не родилось еще человека, на ком бы он мог задержаться… Раевскому это быстро прискучило,
– А вы представьте ее на судне! – шепнул он Александру. Сиречь, на урыльнике… И все пройдет!.. – У него это звалось: «Немного говна в душу – извините!» – и Александр улыбался – жалкой улыбкой.
Раевский не говорил, к примеру, просто: – Пушкин, идемте в баню! – но беспременно что-то этакое: – Как по-вашему – нам не пора уже с вами омыть свои грехи?..
Александр сам побаивался или не любил – пустого трепетания словес в обыденной речи (что так принято в свете). Высоких слов или символов, которые ничего не значили. И, хоть он не был никак по-настоящему религиозен – слово «грех» для него имело свой смысл – звучало как именно «грех». А здесь он должен был безмолвно принять легкость – с какой входят в обращение самые, что ни есть, весомые слова.
Эти походы в баню были чем-то мучительны для Александра. – Хоть он не рисковал в этом признаться.
Он от природы был застенчив и часто скрывал это от себя. Не с женщинами, нет – с мужчинами. Слуг это не касалось. Он был барин по природе – и слуги – что мужчины, что женщины – не вызывали в нем стеснительности. Арина могла спокойно намывать его в бане – и он бестрепетно поворачивал к ней то одну часть своего естества, то другую. И видел, что Арина откровенно любуется им – как собственным рукодельем, что ли?.. Если б на месте ее была прислуга более молодая – он, верно, вел бы себя так же. В турецких банях, в калмыцких – он охотно подставлял себя чужому полуголому банщику… Но с мужчинами своего круга… Во-первых, он смертельно боялся бардашей – так именовали мужеложцев. А во-вторых… Нет-нет, он от природы был отлично скроен, несмотря на малый рост, и сознавал это. Но он знал эту дурную привычку мужчин – многих, почти всех – вести в бане как бы сравнительный анализ… Своих мужских статей – и статей кого-то другого. И это сравниванье – еще с Лицея – откровенно смущало его. (Чувство, какое свойственно мужчинам – но они стараются не признаваться в том – и даже себе.) Так вот, с Раевским почему-то он ощущал особую неловкость. Ему даже казалось – тот отлично сознает эту его слабость и в охотку ее эксплуатирует, получая какое-то странное удовольствие. То ли любуясь втайне собственным – выше среднего ростом, то ли…
У него был большой член – ну, не то, чтоб непомерный – но, правда, большой. Так что было непонятно, что там может еще вытягиваться, если нужно. Даже крайняя плоть не вовсе облекала его…
– Меня принимают за обрезанца! – жида или мусульмана!.. Как вам нравится?
Он смеялся с достоинством: – И это еще не все! Еще с треть примерно в нутрецо ушло!.. – Он любил русский язык и со вкусом пользовался им. В том числе словами не частого употребленья, особенно в свете. (Он вообще являл способности к языкам.) Слово «нутрецо» он произносил с особым смаком.
Однажды на бале в Одессе, когда Александр с особым удовольствием молодости глядел на танцующих (чуть не с полуоткрытым ртом), на переполненную залу – отличая только женщин, естественно, и находился весь во власти – ярких красок одежд, и драгоценностей, и лиц, и тел – и его трудно было отвлечь от сего счастливого занятия – Раевский наклонился вдруг и шепнул в самое ухо:
– Как по-вашему, если б я сейчас выложил его на стол – ко мне б испытали уваженье?..
Александр вздрогнул, как пойманный птенец – раздражился и бросил почти неприязненно: – В вас какой-то фаллический бонапартизм! – Вам не кажется?..
И Раевский растерялся несколько – от такого отпора – кажется, впервые.
– Да, пожалуй! – сказал он задумчиво и как-то рассеянно. – Пожалуй! – и тотчас усмехнулся: – Фаллический бонапартизм? Это хорошо! Сами придумали?..
Как-то он сказал: – Вы счастливец! Вы малорослы! Ну… небольшого роста! Сие дает вам фору – супротив любого из нас. Почему-с? Да потому что малорослые обладают безмерным честолюбием.
Не замечали? Их главный козырь – честолюбие. Они способны опередить кого угодно, ибо лишь честолюбие – движитель обществ и армий. И лишь оно способно пробить коросту человеческого равнодушия и природных слабостей. Что лучше? Больше честолюбия и меньше способностей – или наоборот? Я выбираю первый вариант. Не для себя, конечно! За меня выбрал Бог. Но вы… вы далеко пойдете! Возьмите Бонапарта!.. – ну и так далее.
Ярый бонапартист, хотя и на него лег отсвет славы отца, добытой именно в войне с Бонапартом – он разглагольствовал нередко:
– Вы все не понимаете, какую роль сыграл Наполеон в изменении самого духа века!.. Вы были юны тогда. Война 12-го года и прочее – все это не имеет значения, сравнительно с тем, что юный артиллерийский поручик… он был всего поручиком? безродный, итальяшка… одною силой ума и воли смог стать императором французов и на какой-то момент, достаточно продолжительный – повелителем целой Европы. Пред кем склонили выи владыки древних династий. Пред кем дрожали некогда победоносные армии. Это ли не победа личности над властью и родовыми привилегиями? Победа духа над силой и окаменевшими традициями?.. Он сделал больше, чем ваш Байрон, для укрепления человеческой гордыни и веры человека в себя!.. Да что там! Если б не он – не было б, уверяю вас – и никакого Байрона!
Но, когда пришло известие о смерти Наполеона на Святой Елене (это было уже в Кишиневе), – в бане, в парилке, со сладостным урчанием окатываясь водой из медного таза и очень заботясь при этом о своем богатстве – он говорил так:
– А вы знаете, что у Наполеона был, что называется, птифаллос?.. Очень мелкий. Пипка – а не член. Нет-нет, не знаю, сам-то он, может, что-то и получал в общении с женщиной, но женщина… Недаром Жозефина изменяла ему направо и налево – покуда не стал императором, конечно, ну а потом уж… пардон! Императору не изменишь! – если он не слабак и не Людовик XVI! (Кстати, вся революция французская произошла исключительно из-за бессилия Людовика и неудовлетворенности Марии-Антуанетты – не знали?) Все равно Наполеон в отместку сменил ее, Жозефину, на принцессу Луизу. Но и та в итоге спуталась с каким-то гренадером. – Откуда он брал все – про Бонапарта – было не известно, и Александр попытался выразить сомнение.
– Не верите? – спросил Раевский меланхолически – и оглядел его с ног до головы – голого и беззащитного…
– Не горюйте! – завершил он, Женщины врут себе, как правило, полагая, что рост мужеский и размер фалла соответствуют друг другу. Ничего подобного! Бывают ошибки, весьма прискорбные! (рассмеялся громко).
– Не бойтесь! (этак свысока). То, что нужно по-настоящему возбудить в женщине – расположено недалеко. То есть – неглубоко… – Недаром говорят гусары: «Маленький…к – кой-где королек!»
– А греческие статуи? – спрашивал Александр растерянно.
– А вы видели самих древних греков? Не видели! Они были ростом меньше вас! Человечество растет постепенно… только куда?.. – хмыкнул и снова стал обливаться жадно.
Что касается ноги, на которую он припадал… у него был свищ на самой жиле, в нижней части голени. Свищ никак не заживал, его-то он и лечил в Пятигорске ваннами, поджидая семейство. Когда он распокрывал свою рану в бане, лицо его ненадолго делалось задумчивым (вопреки обычному), даже жалобным. Да и на ногу было жалко смотреть. Он несколько минут осторожно поглаживал ее, глядя куда-то в сторону. Дома говорили, что это было следствие раны – которая так и осталась от лишнего расширения вен (что после доктора будут звать «варикозным», а в те времена без разбору третировали аневризмой). Но сам он и здесь умудрялся набрасывать тень таинственности, намекая Александру, что сие, возможно, след венерической болезни, название которой он скромно умалчивал. (Его острые глаза при сем туманились загадкою.)
– Ваш любимый Руссо, как вы помните, водил своего племянника по венерическим клиникам Женевы, дабы явить ему картину последствий разврата! (И, странно, в его устах эта история с бородой звучала почти новацией! Может, потому, что он добавлял: – Кстати, эта злосчастная уремия, так мучившая его, была след незалеченного люэса! Впрочем… у великого Петра было то же самое! Он лечился в Голландии и не долечился… потому и умер. А наши историки твердят, что он там обучался строительству флота! – он и это знал! – и в его устах слово «люэс» отдавало эстетической категорией.)
Александр, как всякий молодой человек, смертельно боялся этих болезней – и, вместе с тем, питал к ним необыкновенное любопытство.
– Как? Вы ни разу не бывали – хотя бы в Любеке? (Он отлично знал, что Александр никогда не был за границей!). О-о! Это – первый ганзейский город на пути в Европу, как помните из географии – и классический город публичных домов и венерических клиник. Наши россияне быстро освобождаются здесь от гнета самодержавства – и не успевают заметить, как переходят – из заведения одного типа в другое!
Он говорил еще: – По мне муж младый, кой не испытал ни одного ртутного сеанса и не заразился, хоть раз, хотя бы гонореей – не может считать себя вполне состоявшимся. Помню, во французском походе… Я забавно встретил утро с известием о капитуляции Парижа и об отречении Бонапарта. Я вспомнил, что не изнасиловал еще ни одной француженки! О, эта чистота юности – где ты?! Кстати, мы, русские, их тогда позаразили изрядно! Но и научили, полагаю, кой-чему. Французские мужья могут быть нам в сем случае признательны!
При всей своей озабоченности гетерическими смыслами – он почему-то ужасно раздражался молодыми людьми, у которых сия озабоченность все еще выражалась в обилии прыщей на лбу. Тут он бывал несдержан. Добро еще, когда это касалось беззащитных архивных юношей!.. Но пару раз при Пушкине он, не удержавшись, произнес свое «адский хотимчик!», едва не в лицо какому-то корнету или юнкеру. И тотчас же был вызван на дуэль. Как это удалось загасить, так и осталось в тайне… (Вообще, при его способности раздражаться и в раздражении оскорблять людей – было странно, что у него еще было мало дуэлей!)
Когда, много позже уже, в Одессе, он знакомил Александра с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой – он сказал ей: – Это способный молодой поэт, уже, наверное, известный вам понаслышке! Он украсит, без сомнения, ваш салон мадам Рекамье. Вы ведь, как дитя – любите все, что блестит! – Простите, Александр!
Александр ожидал взрыва – отповеди губернаторши – но увидел слабый взгляд – женский, беспомощный…
Он, как джентльмен – тотчас вступился за даму: – Я согласен служить графине – и даже игрушкой! – поклонился и поцеловал руку, во второй раз благодарно протянутую ему.
– Ну… вы готовы, я вижу! – сказал мрачный Раевский Александр, когда они остались вдвоем.
– Что тут плохого? Она прелестна! – сказал Пушкин Александр, принимая от лакея с подноса бокал шампанского. Хмель жизни в очередной раз ударил ему в голову.
– Да, конечно, – Раевский тоже снял бокал и опрокинул шампанское, как водку. – Этот нежный взгляд – мягкий и, как бы, влажный… Что останавливается на вас с таким печальным зовом… Но он так останавливается решительно на всех. Можете последить, если хотите! Он так полон мечты о несбывшемся – и каждый из нас готов тотчас предоставить ей то, что она не нашла в жизни… На самом деле… Знаете, что излучает – этот небесный взор? Что стоит за ним? Герб гетманов Браницких! Башенки Белой церкви! – родового и неотъемлемого имения гетманов – польских, заметьте! Она полячка, польская панна… Паничка коханна!.. Любите меня! Но прелести сии могут быть оплачены лишь полновесной ценой! Она могла быть только женой наместника. Генерал-губернатора. Ну, если ей уж не подфартило императрицею…
– Почем вы знаете? – отмахнулся Александр. – Он, и вправду, чуть пьянел. От шампанского, от женщины… Его чуть шатало. И даже в ногах его качались меч ты…
– О-о! Я знаю столько, что вам не снилось! И не только потому, что вы молоды!.. К тому ж… я ей – кузен, – прибавил он торопливо.
– Ах, друг мой! Самая красивая женщина Парижа не может дать больше, чем у нее есть. А есть не так много – как мы с вами знаем!.. (И рассмеялся деланно.)
Сколько раз потом, встречаясь с Елизаветой Ксаверьевной, женой Воронцова – и наблюдая ее в свете, Александр то вспоминал слова Раевского – то начисто забывал про них. Эта женщина одним взглядом умела заставить забыть. Все. Даже собственное знание… Просто… когда она взглядывала на тебя так – ты тотчас уверялся, что ты один – на кого можно так смотреть. Есть такие глаза и такие женщины.
Ну, разумеется… на каменистой дороге из Юрзуфа, при переходе через Крымские горы – Александр еще не знал всего этого. Стараясь не упустить маячившие впереди фигуры Николая Раевского и Николая Николаевича-старшего – генерала, и доктора Рудыковского – впрочем, и не нагоняя их (хотелось еще побыть одному) – и следя за дорогой, чтоб конь не оступился: горные тропы, – Александр вспоминал того Александра, своего друга, и чувствовал, что власть, какою тот обладал над ним, – мало-помалу начинает исчезать – вместе с расстоянием. И был рад этому, и, как всегда, когда что-то исчезает – и мы хотим, чтоб исчезло – не понимал, что стоит только встретиться – и все начнется снова… Раевский Александр был такой человек, что думать о нем дурно хоть в какой-то степени – можно было лишь находясь вдали от него. Но стоило увидеть его – и ты вновь попадал в полон его неистребимого обаяния. Пусть даже порой откровенно отрицательного – что из того? Иначе, откуда бы взялся Мефистофель – и все демоны на свете! Тем более, что трудно было уйти насовсем от него – и опять он оказывался прав, и опять… (И Александр еще не раз по жизни столкнется с его правотой – и даже тогда, когда тот Александр, кажется, навсегда покинет сцену его жизни.)
В Бахчисарае г-н Ананьич, местный полицмейстер, потея от усердия – под робно докладывал генералу и его спутникам легенду здешних мест про пленницу-европеянку, якобы полячку, которую любил местный хан Гирей – а после ее смерти или ее гибели воздвиг эту гробницу и этот фонтан… Из ржавой трубы временами набегала коричневатая капля. Будто капля крови, обесцвеченная временем. Почему история всегда пахнет кровью – или напоминает о крови?.. Как будто княжна, как будто Мария… Потоцкая. Из тех самых Потоцких, уманских?.. В истории было нечто байроническое (верно, это и раздражало друга-Александра, слышавшего ее ране). Сам-то Пушкин почему-то сразу поверил – что все так и было. Имя Мария как бы удостоверяло собой быль. Цвет прекрасный – пересаженный на чуждую почву… Какой у него удел? Он представлял себе те самые – две узенькие ступни – робко спешившие в этих комнатах, по мягким ширазским коврам – утопая, как в воде. «Любили мягких вы ковров – Роскошное прикосновенье…» Строки рождались неизвестно откуда – и упадали неизвестно куда. Он никогда не знал – откуда они приходят. К чему приложатся, зачем?.. Сюжетов была масса – но сюжета еще не было. Жизнь была прекрасна и нежна. Смерть обыкновенна и несбыточна. Мария! Он повторял про себя – и любовался сладкозвучьем. Слово слетало с губ – и упархивало, куда-то в вышину. Небесный свод… Две узкие ножки застили горизонт, за которым пряталось солнце. Девушку он покинул легко, а воспоминанье было прочно и томило душу.
Что сказал бы друг-Раевский? – Вы влюбились в девочку? Поздравляю! Вы ста реетесь, мой друг! Право, слишком рано! Эта преждевременная старость души… Впрочем… весьма расхожая болезнь. Века! Мы уже рождаемся стариками. Только старые рамоли волнуются девочками!.. – Александр словно услышал въяве, с каким восхитительным презреньем – тот произнес бы это слово «рамоли»!
Что если б эта девочка с беззащитными ногами – столкнулась с человеком, подобным ее брату?..
Мысль было не отогнать. Он забывал ее и вспоминал снова «… Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века…»[10]
Схолия
Интересно, как Пушкин почти сразу уверовал в легенду о Марии – в отличие от многих современников своих – включая Мицкевича. Наверное, к каждому писателю идет его материал!
Имя Мария с этих пор не покинет его до конца: до Маши Троекуровой в «Дубровском» и Маши Мироновой в «Капитанской дочке». Не только «Бахчисарайский фонтан» или посвящение к «Полтаве» озарены этим именем и воспоминанием. «Твоя печальная пустыня, – Последний звук твоих речей – Одно сокровище, святыня, – Одна любовь души моей»… Поди-пойми – почему это посвящение до сих пор оставляет в сомнении исследователей относительно адресата поэмы: здесь все так явственно! «Последний звук речей», конечно же – последнее свидание с Волконской (Раевской) перед ее отъездом в Сибирь – об этом после). Но главное – сам сюжет, где, помимо Петра, Мазепы, Кочубея, поединка власти с гордыней и мятежом, столкновения двух правд: Человека и Государства – есть еще трагическая история любви юной девушки к старому мятежнику. (Волконскому в пору приговора по делу декабря 1825-го – почти 38. Это – если не старость, то далеко от молодости, очень далеко. – У каждого века – свой возрастной ценз. Пушкин в 36 писал жене: «Но делать нечего. Все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком…» 25 сент. 1835.)

