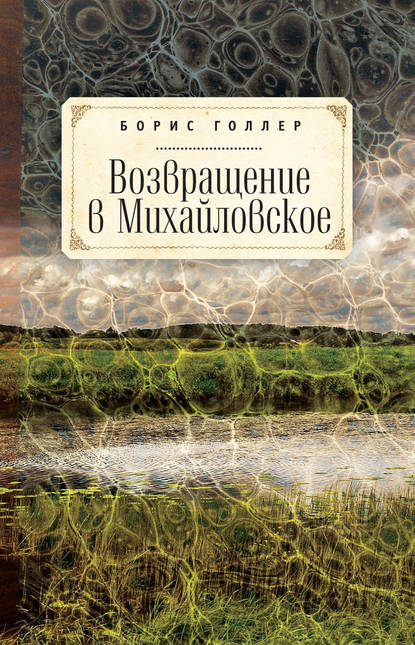
Полная версия:
Возвращение в Михайловское
Утром, пока семья Раевских спала – и он не ждал никого встретить – он сбегал к воде. Плавал он не слишком хорошо – и потому, уйдя на более или менее безопасное расстояние – разворачивался в воде и плыл вдоль берега. Медленно… Вода успокаивала его. Ему казалось, она способна зализывать раны. И души в том числе? С воды мир на берегу мнился совсем иным, чем с берега. Александр плыл равномерно – и плыло время. Дома словно рисовались на пыльной поверхности неба и красновато-коричневато-зеленоватом фоне гор. Люди двигались плавно и тихо. Между ним и греком, который входил в эти воды лет этак две тыщи назад – в сущности, почти не было временного разрыва. Они вполне могли повстречаться в воде.
…Ночами приходила А. И. То есть, Анна Ивановна. Он часто так и звал ее – А. И. («Аи любовнице подобен – Блестящей ветреной живой – И своенравной и пустой…» Но тут все было иначе.) Не каждую ночь, но приходила. Конечно, тайком – когда все спали в соседних домах… Иногда она бросала на ходу днем: – Сегодня я обещала барышням сопровождать их в баню. Или: – Софья Алексевна едет в Алупку, я – с ней. Мы поздно вернемся… – И тогда они не виделись.
То был странный роман. Может, самый странный из его романов доселе… От него не требовалось никаких слов. И она сама ни о чем не говорила. Она была татарка. Он впервые в жизни столкнулся с восточной женщиной – с непонятным уделом и редкой молчаливостью. О себе, о чувствах, о жизни… Она не жаловалась и не страдала – то есть, внешне. Ее узкое тело подчинялось беззвучно, как стекло устам стеклодува. Лишь отливаясь по форме, какая предлагалась ей… Ее темперамент был выражением покорности – согласия, но не страсти. Все было смутно в этой молодой и привлекательной женщине с чуть с косинкой черными, как нефть, глазами – в сущности, небольшими, больше спрятанными в глазных впадинах, чем освещающими их (они звали куда-то во тьму – на глубину) – и тонкими выразительными губами. Складка печали, складка нежности? Однажды после близости она вдруг сказала: – Вы – король любви! Вам это говорили?.. – Александр был молод, и ему хотелось продолжения: было ощущение сломанного льда. Но она тут же заговорила о другом – тем же тоном, о чем-то вовсе обыденном. Само ее место в доме Раевского было не совсем понятно. Верно, она была вдовой одного из его офицеров – или дочерью погибшего, после – чьей-то вдовой?.. Возможно, с ней была связана какая-то тайна семьи. О муже она никогда не распространялась. И как-то не давала повода спрашивать… Он знал, что она была прежде любовницей старшего из братьев Раевских – Александра. Но она никогда не говорила и о нем. Почему сошлись? почему расстались? любила, не любила? Поскольку Раевский – старший брат – с некоторых пор занял или стал занимать особое место и в жизни, и в душе его самого, Александра, ему бы хотелось узнать что-то подробней. – Так верный ученик, чая лучше понять учителя, незаметно для себя становится любовником его жены – или бывшей возлюбленной… Но женщина упорно молчала и об этом. И о том, что было теперь у них с Александром, тоже никто не знал. Разве что – генерал. При всей его простоте и отсутствии (наружнем) всякой загадочности – его взгляд иногда исподтишка демонстрировал тайное знание – более, чем какой-нибудь другой. Может, потому, что ему как воину и герою – была ведома тайна самой смерти? В данном случае он ничем, разумеется, не выказывал своего знания. Может, вообще Александру почудилось. На людях он и А. И. вели себя со сторонней любезностью…
Но был день, когда он заметил, что за ними следят. Чей-то пристальный взгляд стал беззастенчиво нарушать их, ставший привычным за две недели тет-а-тет на людях. Когда вокруг много глаз и взоров – например, за завтраком, не так просто понять – чей именно взор вдруг уходит в сторону, когда ты поднимаешь глаза, за секунду перед тем ощутив его на себе. Сперва он грешил на Елену… Болезненный взгляд? Когда собирались все вместе – он подозрительно оглядывал ее. Обводил всех глазами, пытаясь подловить, но… Взгляд остался неуловим – только он ощущал его на себе. Дня через два или три, ночью, войдя к нему и раздеваясь неспешно – А. И. сказала так же свободно, как отлетали одежды в стороны, отстегивались подвязки и расшнуровывался корсаж… – Поздравляю! Вы умудрились похитить сердце Марии! Бедное дитя! Она следит за нами!.. Теперь берегитесь! – добавила она, освобождая бедра от белых панталон с кружавчиками на коленях.
И добавила с женским злоречьем – в сущности, свойственным всем женщинам: – Я вам не завидую!
Мария? Если б ему сказали – кто угодно… не говоря уже про двух старших барышень… даже маленькая Софи – он, право б, меньше удивился. Мария?.. Мария была нескладный и недобрый подросток. Когда он видел ее мельком в Киеве, заехав к ним, еще перед Екатеринославом – у нее еще не вывелись прыщи, свойственные определенному возрасту. Во всяком случае – оставались следы. На лбу и на подбородке, переходя на щеку, что было особенно некрасиво. – Щека внизу была почти испещрена – такими маленькими шрамиками. Александр не помнил, как они исчезли с лица, и были ли они еще в Екатеринославе. (Он мало обращал на нее внимания.) Во всяком случае, поездка пошла ей на пользу. – Солнце, горный воздух… Она начинала выправляться внешне – хоть все равно – все было нескладно: ноги длинней обычного, почти от спины, руки тоже длинные – и как-то врозь… Осиная талия ее была от худобы. (Все расползалось, никакого единства в образе. Как она сама выбивалась из ряду в общем-то дружной семьи.) Только глаза – мамины, греческие, большие и печальные – что-то скрашивали. Конечно, когда не злилась. – А злилась она часто. И все оставалась – заносчивой и несносной. Когда он верхом подъезжал к коляске, в которой ехала она – а, видит Бог, он был недурной наездник… и кроме того, молодой человек в седле – а тут – солнце, лето, вершины, обрывы, и сердце бьется в упоенье решительно у всех и неважно отчего, – все дамы отвечали благодарно на его выходки и даже не совсем удачные остроты… маленькая Софи так и заходилась смехом, дамы – гувернантка и А. И. – тоже смеялись и кокетливо грозили пальчиками в окно… Мария отворачивалась – иль, напротив, упрямо глядела в упор – не отрываясь, и без улыбки. Всем видом осуждая – неизвестно кого и за что. А то вдруг… Когда он решал отправиться в горы с Екатериной – или с Анной Ивановной, и, в общем-то, вовсе не желал свидетелей, она увязывалась за ними и упорно мешала всем легким амурничаньям своим жестким взглядом и самим своим присутствием. – Ужасный характер! Александр догадывался, что это – возраст… и какое-то тайное недоверие к себе – или неверие в себя? – Среди красавиц-сестер… Но под ее взорами становилось не по себе… Когда все сидели вечером – за столом в саду, мужчины с позволения дам – курили трубки, чтоб отгонять комаров, и Александр что-то рассказывал такое – и все внимали, а он уж стал привыкать, что ему внимают – она могла так спокойненько подняться и сказать: – Ну, ладно, я пошла… становится прохладно… и по том, я боюсь, скоро будет скучно! – и уходила. И все переглядывались в неловкости. Она дерзила решительно всем, и даже отцу, на что не решался никто в семье. И странно… великий воин не сердился на нее – и только смолкал. Исторический человек был тут вне истории – и в глазах его было лишь беспокойство за нее. Она явно невзлюбила Александра с тех пор, как он появился в семье, и всю поездку почти преследовала своей неприязнью. Однажды, когда все так в растерянности глядели ей вслед – Александр отметил про себя, что у нее рождается походка. На него всегда действовала необыкновенно именно походка женщины. (Что, в свой час, его и сгубило.)
Вечерело. Он вышел на брег. Закат надвигался сбоку – с моря и постепенно охватывал горы полукругом. К камням набегали волны прибоя. – Волны были невысокие – но бурные. Морем не пахло почти – только душным небом. Гроза висела в воздухе уже второй день и никак не могла пролиться дождем. Все ходили унылые, как вороны. Ворон на берегу было много. Они отличались задумчивостью. Ему не писалось уже дня три. Был потерян мотив. «Я потерял свой мотив…» Он бродил «под сенью девушек» и болтал всякие глупости. Он ощутил, что задержался здесь. Его невольный отпуск кончался – а что дальше? Он грыз ногти, и его грызли сомнения. Он презирал себя. Вдали белелся одинокий парус… («Белеет парус одинокий…» – он мог бы это написать, но не написал – напишет другой.) Он ступал по камням – переступал – стараясь попасть с плоского камня на плоский, стараясь избегать острых, бросая вперед тяжелую трость для прогулок. Крымские камни в отличие от кавказских – вызывали ощущение развалин ушедших веков. Таврида дышала жаром и историей. «С Атридом спорил там Пилат – Там закололся Митридат…» Стрелка овечьего помета стелила ему путь. – Недавно тут проводили овец. Почему козий бог Дионис – деревенщина, смерд – сумел затмить Аполлона? Жрец Аполлона – Александр не выносил Диониса, но втайне ему завидовал. Почему к нему, а не кому другому – восходит трагедия древних греков? Трагедия, «козлиная песнь». «Песни козлов»… Чертов смерд – Дионис. (Впрочем, Аполлон был тоже хорош – велел заживо содрать шкуру с музыканта Марсия. Который решился бросить ему вызов в игре на кифаре. – Про себя Александр считал, что и сам способен бросить вызов Аполлону.) Вдалеке на море был белый парус, а на берегу, вдали – маленькая фигурка девушки. (Наверное, девушка – уж слишком тонка, худа!) Она там, верно, играла с волнами. Какая-нибудь служаночка резвится в отсутствие господ – подражает госпоже. Отсюда было видно, как ее юбки вздымались весело и открыто. Но и на пляже было пусто. Он еще приблизился и узнал Марию. Бесстыдница! Мать бы ей задала за такую игру! – Он невольно улыбнулся собственному ханжеству. И вдруг понял… она не просто воюет с волнами – она танцует. И в этом танце ее есть некий смысл. Она кружилась пред волнами, задирая юбки и, склоняя головку – то вправо, то влево, то назад, то вперед, – и что-то там видела такое, доступное только ей. Кажется, она смотрела на свои ноги. Придирчиво. И что-то воображала такое – про себя или о себе. И о чем-то мечтала… А мечта не могла не тронуть Александра. Он загляделся. И понял, что вдруг проникся ритмом ее танца. Услышал дальнюю музыку – словно музыку сфер. Зонт мечты, поднятый ею, раскрылся и над ним. Ее худенькие ножки еще детские – уже взрослые – были необыкновенно высоки и нежны, как бывают только побеги несорванных цветов и были влажны, как лепестки после дождя. Он почувствовал укол беззащитной нежности. Ее ноги были почти прозрачны на фоне моря. Почти сливались с водой. Что это? Зачем? Неужели их, эти ноги – будет кто-нибудь (посмеет) когда-нибудь разбрасывать в стороны, рвать… грубо… безжалостно… пьяный гусар – после очередной попойки? Или это и есть – женская судьба? Странно! Эта мысль никогда прежде не тревожила его! Он сознал себя чудовищем. Грубым мужланом. Ему стало стыдно впервые – своей мужской сути. Своей густой плоти – вечной жадности до наслаждений. Сгущенная плоть. Бугор под штанами. Только и держи ноги под столом! Утешитель шлюх. Он проснется в борделе – и умрет в борделе. Ему не суждено познать истину блаженной нежности и чистоты. Он задохнулся счастьем – и презреньем к себе. Что она танцевала сейчас? Танец был дикий и несмиренный – как предчувствие жизни. На заднем плане – за ней вставала белая луна раннего вечера и полоска заката на горизонте стекала по ее цыплячьей шее.
Она вдруг остановилась в танце – и опустила юбки – не до конца: набегала вода…
– Вы подсматривали за мной, – сказала она. – Это нехорошо!..
– Нет, – возразил он, – нет!
– Нет, вы подсматривали!
Он снова возразил: – Да нет, нет! Отступил на шаг – и тотчас надвинулся… сделал шаг к ней – или два шага.
Он стоял чуть выше – каменистый склон – и видел ее лодыжки и ступни в воде – необыкновенно тонкие, узкие и длинные – тоже почти прозрачные, на просвет. Словно продолженные светом. Как в зеркале. Они излучали свет – и камень под ними тоже светился, как под ликом святого.
– Это дурно, – повторила она, почему-то задумчиво (а так ли это?).
– Нет, – повторил он. – Нет! Я… я любовался, – едва выдавил он, краснея.
– Не верю! Вы влюблены во всех!
– Кто вам сказал?..
– Все так думают о вас! Я безутешна!..
– Это неправда! – сказал он.
– А Анна Ивановна? – спросила она.
– Это неправда! – повторил он не слишком убедительно. (Ведь знает, что правда!)
Он был виноват перед этой девушкой-ребенком. За всю свою жизнь до – бессмысленную и нескладную. За свои пошлые романы. За грехи всех мужчин на свете.
– Я вам не верю! – она покачала головой. Явно желая поверить. В глазах ее стыли две слезы. Сама его муза стояла перед ним – четырнадцати лет отроду. Погрузив в воду прозрачные ступни и приподняв юбки. А он путался и лгал. Музе? И страдал от собственной лжи…
– Papa не отдаст меня за вас! – сказала она, подумав… – Но, может… если вы очень попросите… Он вас любит!..
– Подождите немного! Я попрошу!.. – Александр не узнал собственного голоса. Голос был отдельно – душа отдельно.
– Нет. Он не отдаст, – сказала она с грустной уверенностью детей. – Он захочет меня выдать за старого толстого генерала. – Она надула щеки пытаясь изобразить этого самого генерала. И провела рукой округ бедер – отчего ее платье с одного боку опустилось в воду.
– Вы замочили платье! – сказал он, обрадовавшись, что можно переменить разговор.
– Я вижу!.. – но платье так и осталось в воде, и волна ласкала его.
Что он должен был делать? Пасть на колени перед ней?
– Погодите! – только и смог выдавить он. – Еще есть время! – он сам не знал, что значит это обещание.
– Но вы можете меня увезти! Тайком!.. Ведь часто девиц увозят тайком!.. – она улыбнулась – мечтательно и грустно…
Он поклонился неловко и двинулся вдоль берега – прочь, прочь – только чтоб бежать – от нее, от себя, от этих слов и ступней, от этого ощущения судьбы – своей, ее? – с лилово-красной полоской вдоль горизонта. Он вспомнил, что ни разу почти за весь разговор – не поглядел ей в глаза.
В последующие дни она избегала его – и только. Он заметил лишь, что исчезли ее испытующие взгляды за столом. Они оба старались не глядеть друг на друга. Он был рад, что у А. И. как раз начались регулы и не надобно было ничего объяснять. Было сладко хранить верность девочке с бездонными ступнями, которые светились в воде. Он засыпал и просыпался – один и счастливый.
Они увидятся в последний раз в Москве, в декабре 1826-го, в доме ее невестки, княгини Зинаиды Волконской – музы бедного Венивитинова. Мария будет отправляться в Сибирь вслед за мужем-каторжником. Но об этом после.
Дня через три-четыре он покинул Юрзуф, принял предложение генерала сопровождать его в поездке через горы, верхом – через Крымский хребет: генерал путешествовал с младшим сыном. Старший сын генерала не составил им компании. Во-первых, у него были больные ноги, а во-вторых… Он являл откровенный скепсис по отношению к столь романтическому путешествию.
Александр согласился с охотою… В молодости мы не сознаем, что теряем – в уверенности, что новые впечатления легко заменят нам прежние. Так было – так будет! Они взяли коней и отправились. С А. И. он простился почти в молчании, оба пробормотали что-то про грядущую встречу, зная прекрасно, что она не состоится. Мария проводила их спокойно и как бы безучастно.
Глаза ее, как часто прежде – смотрели куда-то в сторону – и Бог знает, что еще хотели высмотреть там…
«Я помню море пред грозою – Как я завидовал волнам – Бегущим бурной чередою – С любовью лечь к ее ногам…»
Так возникло имя Мария – в его жизни. Скорей, титул, знак… А как явилось в параллель имя Татьяна – он не мог вспомнить.
Схолия
* Говорить о «южной ссылке» Пушкина – как-то зазорно – нам, ведавшим иные судьбы поэтов в ином веке. По жизни речь шла лишь о переводе по службе в одну из южных губерний – тем же чином. (Чин был небольшой.) Канцелярия Инзова находилась в те дни в Екатеринославе, но когда путешествие с Раевскими кончалось – Александру пришлось догонять ее уже в Кишиневе: Инзова за это время перевели с повышением, сделав наместником Бессарабии.
** Читатель, может, примет за недостаток воображения автора этих строк, то, что дважды, в разных обстоятельствах (и с разными персонажами) рисуется эта сцена игры с волнами. Конечно, придумать можно и лучше. Но… Во-первых, «такое бегание наперегонки с волнами было в ту пору модным развлечением» (Набоков[6]. – Он даже находит подтверждения тому у Шатобриана.) – Известно, что однажды в Одессе, во время подобной игры на берегу, Пушкина и двух его сопутниц – Вяземскую и Воронцову порядком окатило волнами. Пришлось всем срочно ехать домой переодеваться. Во-вторых, эта сцена. На наш взгляд, тоже претендует на то, чтоб считаться неким зачином романа (см. строфы XXXIII – XXXIV Первой главы «Онегина»: «Я помню море пред грозою…» – О смысле этих строк вобщем движении романа Пушкина дальше). Что касается «поисков реальной женщины, к которой подошел бы этот «хрустальный башмачок», то, у Набокова достаточно пылкую поддержку имеют по меньшей мере четыре «прототипа»[7]. Но, начав с «наиболее правдоподобной кандидатки – Марии Раевской», он почему-то в итоге отказывается от нее и склоняется к мысли, что «одна из ножек принадлежит Екатерине Раевской, а другая – Елизавете Воронцовой» (забавный вариант!), Гумберт Гумберт явно не видит здесь Лолиты XIX столетия. – Никак нельзя представить себе, что это впечатление поэта было от взрослой замужней женщины (даже любимой). Кстати, поздние воспоминанья самой Марии Николаевны Волконской (Раевской) об этом эпизоде так же мало походят на истину – и по месту действия, и по обстоятельствам! (Ах, эти наши воспоминанья – тусклая проза усталых людей, и где ей до правды стихов!)
Как бы ни была красива Воронцова – она была уже достаточно полной, дородной женщиной. Да и про Екатерину Раевскую Пушкин бросил мимоходом, имея в виду Марину Мнишек: «собою преизрядна (вроде Екатерины Орловой)» (та была уже Орловой)[8].? Ну и конечно, в финале: «А та, с которой образован – Татьяны милый идеал – О, много, много рок отъял…»[9]
XXXIII строфа активно напоминает нам (и мы постарались, чтоб описанная сцена так же напоминала) – кадр из «Древа желания» – гениального фильма Т. Абуладзе: узкие, необыкновенно нежные ступни девушки в прозрачной неглубокой воде… с освещенными солнцем камнями под водой. «По вашим узеньким следам – О, ножки, полно заблуждаться! – С изменой юности моей – Пора мне сделаться умней»… – поздней зазвучит в главе Пятой. «Узенькие следы» – несомненно образ девичий.
VIII– Езжайте! – говорил ему Раевский Александр на прощанье – тоном, каким отпускают грехи. – Вы увидите массу интересного. Бахчисарай, «Фонтан слез»… (И улыбался загадочно.)
– Там есть гробница любимой ханской наложницы… Дилары-Бик, Бич… что-то в этом роде. Эти восточные имена!.. (Поморщился по-европейски.) Говорят, она была европеянкой и христианкой. Еще некий фонтан засохший и вроде – ей посвященный. Вы сможете заразиться новыми вдохновениями!.. – слово «вдохновенье» в его устах всегда звучало названием дурной болезни. – Это как раз для вас! Там, по-моему, гидом – местный полицмейстер!
Интересно… Что сказал бы он, если б узнал – про ту сцену на берегу? Про чувство, вдруг вспыхнувшее к девочке? К его младшей сестре?..
Кстати – сколько ей лет? Хоть уже стукнуло четырнадцать?..
Мысли незаметно перебрались – с сестры на брата. Он только в пути понял, что рад был, хоть на время, расстаться с ним. Их дружба возникла почти сразу, на водах с чистого листа – почти без начала, с середины… Он и прежде привык испытывать влияние. Более того, он любил влияние. – Дружба с младых ногтей – была его, может, единственной религией. А в дружбе нельзя не испытывать влияния. Влияние, вливание… Ему нравилось просыпаться поутру, ощущая себя иным – от случайно вечером услышанной чьей-то фразы. «Только дураки не меняются…» – говорил он часто, а думал еще чаще. Он любил меняться. Он был пчелой, умевшей собирать свой мед с самых разнообразных цветов – и всюду находить именно свой, необходимый ему. Уж так был устроен его хоботок… Протей? Ну что ж… протей! Он не стеснялся – и, напротив, иногда гордился. Он любил сбрасывать шкуру. Когда шкура менялась – он чувствовал, как в жилах тоже просыпается иная кровь. С Раевским Александром было другое… Раевский был власть. Какую он ощутил почти сразу – и не мог понять: она радует его или страшит?.. С Раевским он стал узнавать себя другого, какого не знал раньше. И не был уверен – что этот другой нравится ему. Он открывал в себе черты странные… Привыкший с ранней юности к похвалам и признанью друзей – он, оказывается, совершенно не мог перенести – чтоб выражали неверие в него – хоть в чем-то. И страдал почти физически. И готов был чем угодно доказывать свою состоятельность. Даже ценой унижения, даже заискиваньем. Он впервые, минутами, правда, но ощущал некую сладость рабства.
Раевский Александр был росту выше среднего, ногу (правую) порой чуть приволакивал – она была у него больная… и в байроническую пору в таком приволакивании был свой шарм… за толстыми стеклами очков были темные материнские глаза, очень внимательные – и не то, чтоб большие, нет! – но с какою-то мрачностью, какая редко давала возможность заподозрить их в теплоте… зато сразу обращала на них внимание – так, будто они и выделялись более всего на худощавом лице… впрочем, это было оттого, что он умел подолгу смотреть на собеседника – прямо и, вместе, отрешенно; его европейский – греческий нос естественно свидетельствовал гордыню… Вся внешность его обличала человека необыкновенного.
Раевский сумел – всего за несколько дней, неделю – заронить в него что-то такое-этакое – сомнение в правильности жизни, какую он вел раньше – или в ее ценности. Внушить, что он вырос в некоем полупризрачном мире, полном романтического хлама… (Раевский так и произносил с выраженьем – «романтический хлам!») Это, якобы, засорило его, Александра Пушкина, воображение – и мешает ему видеть жизнь в ее истинном свете. (Попутно делался намек, что сие может остановить его в поэзии, к которой он, Пушкин, как будто, склонен!.. – именно так и говорилось: «как будто».) Раевский упорно нажимал, с самого начала, на те самые клавиши, какие мы привыкли прятать под крышкой клавесина, будто и под крышкой видел – где они находятся. И эта игра на спрятанных клавишах была болезненна для Александра и, вместе, странно привлекала его… Все, что Раевский предрекал – почему-то оказывалось правдой, и это удивляло… А предрекал он по большей части – что-нибудь дурное или неприятное. (Много после Александр понял, что так – куда проще: чаще сбывается – уж так устроена жизнь – так куда легче прослыть пророком.)
Он спохватился, что отстал. (Генерал с Николаем так же остановились где-то вдалеке, оглядывая местность.) Проезжали мимо маленькой татарской деревушки, вившейся по склону горы. На вид – здесь мало что изменилось – со времен древних греков. С двух сторон от домов, по желобам стекали нечистоты, и только запах относило ветром в сторону… А рядом с деревней уходил в гору чудесный виноградник. Что за вино мы пьем в этой жизни? И как оно смешано с ее отходами?.. Всякое вино бытия таит в себе нечистоту – или как-то перемешано с ней!.. Между белыми мазанками с низкими крышами торчали груды мусора. Среди этих куч мелькали там и сям замызганные черноглазые ребятишки. Те, что поменьше – вовсе без штанов. Он мог бы родиться в такой деревушке. Ходить в детстве без штанов. И никогда не слышать стихов. Не знать даже имени – Тасса или Овидия. Ужасно! Или… может, так лучше?.. Каждый рождается в свой час, в своем месте. И уходит в свой час. Пушкин вряд ли родился б в этой деревушке – родился б кто-то другой. А значит, и чувства были б иные… Что лучше? Без конца искушаться жизнью – или вовсе не подозревать об ее искушениях? Он снова представил – что сказал бы Раевский на этот руссоистский пейзаж… Посмеялся б его, Александра, бредням? В очередной раз лягнул бы Руссо?
Теперь он сам нуждался постоянно – в приеме иронического зелья… Как спасительный укол больному.
Однажды, уже в Юрзуфе, Александр в мягкой форме попенял Раевскому-тезке на его очевидную резкость в обращении с матерью, Софьей Алексеевной. В ответ получил целую отповедь – изумившую его…
– Ну да… – сказал Раевский. – И вы начнете упрекать меня в сыновней неблагодарности – как мои милые сестрицы. За что я должен испытывать признательность? Разве я просился на свет? Я, верно, прежде озаботился бы узнать, что это такое – и, уверяю вас – вряд ли б согласился! Сомнительный подарок! Если учесть вдобавок, что даже счастье жизни – неминуемо влечет за собой страх смерти…

