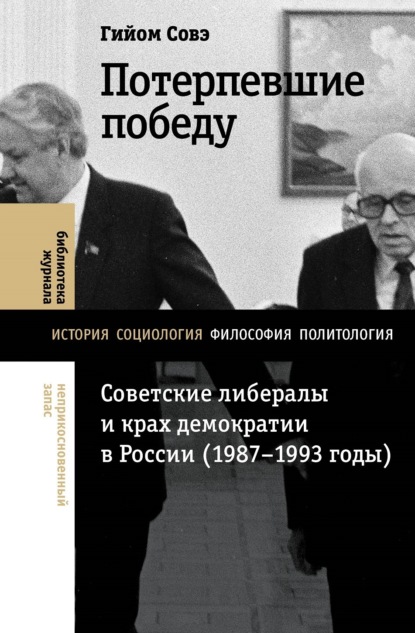
Полная версия:
Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)
Проект советской модерности тесно связан с культурой русской интеллигенции. Провал восстания декабристов нанес серьезный удар по рационалистическим концепциям, унаследованным от Французской революции, в тот момент, когда интеллигенция возникла как социальная группа (в середине XIX века). Молодые русские интеллигенты, которые обратили свой взор на Германию, в частности, из‑за запрета на проживание во Франции, с жадностью впитывали идеи таких романтиков, как Шиллер, Шеллинг, Шлегель и Гердер, которые воспевали культ героя, чья личность реализовалась через творческое выражение всеобщего голоса природы. Эти идеи разделяли не только западники, например Виссарион Белинский, который упрекал царское самодержавие в сдерживании развития личности, но и их славянофильские оппоненты, которые считали, что этому развитию препятствовало искусственное навязывание западного образа жизни. В спорах, где сталкивались два противоположных лагеря, выяснилось, что идеалом обоих являлась самореализация личности, а это подразумевало типично романтическую форму «качественного индивидуализма», который оценивал личность по ее способности к самовыражению, а не по присущим ей свойствам54. Начиная с 1860‑х годов эти романтические устремления популяризировались аграрным социалистическим движением народников и такими писателями, как Лев Толстой, которые осуждали черты, связанные с буржуазным «мещанством», а именно расчетливость, оппортунизм, конформизм, любовь к банальности и обыденности.
К концу XIX века романтические устремления несколько ослабевают в среде левой интеллигенции в связи с распространением в Европе научности и позитивизма. Большевики, в частности, представляли себе коммунистическое общество как машину, точнее, как огромный механизированный завод. В этом они следуют доминирующей тенденции в марксизме со времен Второго Интернационала, которая делает из этой доктрины науку о рациональной организации общества. Немецкий социал-демократ Карл Каутский, один из ведущих деятелей «научного социализма», пишет: «В социалистическом обществе, которое является в конечном итоге всего лишь гигантским промышленным предприятием, производство и планирование должны быть спланированы и организованы точно так же, как и на крупном современном промышленном предприятии»55. Эта перспектива, конечно, далека от романтического идеала гармоничного сообщества, основанного на человеческих ценностях, отстраненных модерностью. В 1897 году Ленин написал агрессивный памфлет в духе Каутского, в котором он нападает на «экономический романтизм» народников и их идею внедрения современных технологий при сохранении традиционного естественного сообщества56. После Октябрьской революции строительство Советского государства приобрело технократический и прометеевский характер: огромная модернизационная утопия, которая, используя средства науки и промышленного прогресса, стремится создать новое общество и нового человека. Конечно, в основе этой идеи лежат моральные импульсы: критика пороков буржуазного мира и, наоборот, продвижение аскетической этики профессиональных революционеров. Но что касается морали советского общества, то большевики остаются верны научному социализму: мораль относится к надстройке и поэтому определяется производственными отношениями. Идея общечеловеческой морали, которая имела бы ценность сама по себе, осуждается как буржуазная выдумка, маскирующая реальность классового господства. В 1920 году Ленин дал определение коммунистической морали с прикладной точки зрения: для коммуниста мораль – это то, что служит делу коммунизма57. И наоборот: именно строительство коммунизма должно создать материальные условия для нравственного совершенствования. Таким образом, в этот период моральные отклонения приписываются в основном факторам окружающей среды, таким как классовая принадлежность и пережитки капитализма.
По словам историка Дэвида Хоффманна58, этот доктринальный отказ от всякой формальной морали не помешал советским лидерам проявлять пристальный интерес к эволюции нравов, как это делало и большинство западных государств в период между двумя войнами. В 1920‑х и 1930‑х годах партия проводила широкие кампании по привитию гигиенических навыков, вежливости, дисциплины на работе и хороших манер, которые считались необходимыми для функционирования современного общества. В СССР эта задача была тем более актуальной, что в условиях полномасштабной индустриализации довольно большая часть населения мигрировала из сельской местности в города; это привело к тому, что городская культура оказалась под давлением сельских традиций, считавшихся архаичными. По сравнению с капиталистическими странами содержание советской «просветительской» программы отличается акцентом на коллективизме: именно через преданность общему делу человек должен освободиться от индивидуального эгоизма и научиться вести себя цивилизованно. Другая особенность этой программы заключается в том, что мораль в ней почти не упоминается. Исправление нравов проводится во имя культурности59. Несколько иная ситуация сложилась внутри партии, которая претендует на роль моральной элиты, как провозглашает фраза Ленина, написанная на обложке каждого членского билета: «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи». Однако если в 1920 году руководство партии создает контрольные комиссии для борьбы с посягательствами на пролетарскую мораль среди своих членов, то оно отказывается от выработки формального кодекса поведения, несмотря на неоднократные просьбы членов партии. Емельян Ярославский, председатель Центральной контрольной комиссии, предпочитает ссылаться на «наш неписаный кодекс коммунистической морали»60. Отказ от формализации последней связан, вероятно, с заботой о сохранении монополии лидеров партии на легитимное толкование коммунистической морали, чтобы не подвергать режим моральной критике, основанной на принципах, которые она исповедует.
Историк Йохен Хелльбек61 показал, что в начале 1930‑х годов в СССР наметился важный сдвиг в сторону романтической чувствительности, когда личная совесть воспринималась как движущая сила социально-политического развития, а не просто как объект воспитания. Другими словами, технократическое побуждение прививать коммунистическую мораль извне сопровождается все более сильным требованием воспитывать эту мораль изнутри. В советском обществе, считавшемся отныне «развитым», окружающая среда больше не может рассматриваться как единственный источник морали, которая должна быть также результатом личной инициативы. В то время официальная пропаганда воспевала подвиги героических личностей, которые выделяются из толпы своей инициативой и силой воли. В качестве примера можно привести стахановское движение, прославляющее работников, которые в своей работе намного превышали установленные нормы. Эта романтическая чувствительность отчасти является результатом избирательного возвращения к мышлению русской интеллигенции XIX века, что объясняется восхищением, с которым многие советские интеллектуалы относились к Белинскому, а также и прежде всего официальным культом классиков русской литературы, навязанным сталинской системой образования. В то время как последние представители старой интеллигенции стали жертвами репрессий, многие из их идеалов были подхвачены режимом и привиты массам в беспрецедентных масштабах, что заложило культурные основы поколения шестидесятников, которые выросли при Сталине, испытали политизацию в период десталинизации и впоследствии определяли политическую жизнь перестройки, обращая против сталинизма идеалы, привитые сталинской системой образования. Именно при Сталине была создана доктринальная база марксизма-ленинизма, частью которой была концепция морали как самореализации через усвоение норм, которая появилась еще в 1954 году во втором издании Большой советской энциклопедии62. Однако «сталинский неоромантизм» все еще отмечен несколькими существенными аспектами большевистского технократического проекта, начиная с непоколебимой веры в науку и прогресс. Более того, толкование и распространение норм остаются прерогативой Партии-государства.
Новизна эпохи Хрущева относительно морали как объекта политики заключается не столько в существенном изменении доктрины, сколько в формализации нравственных норм с целью распространения практики самореализации путем интериоризации. В 1956 году знаменитый «секретный доклад» Хрущева на XX съезде партии официально ознаменовал начало политики десталинизации. В нем новый генеральный секретарь высмеял склонность Сталина видеть врагов в каждом, кто не думал так, как он. В то же время Хрущев высоко оценил способность Ленина признавать ошибки честных коммунистов, полагая, что некоторые из них можно исправить, не прибегая к репрессиям. В мае 1959 года Хрущев заявил: «Мы верим в то, что нет людей неисправимых» – и уточнил: «включая политических оппонентов и преступников»63. Это было началом новой политической стратегии, основанной на значительном сокращении объема репрессий (включая ретроактивную амнистию для тысяч узников ГУЛАГа) и на широком распространении нравственного контроля. Новая программа партии, принятая в 1961 году, с большой помпой провозгласила нравственную миссию Партии-государства на заключительном этапе строительства коммунизма, крайний срок которого был намечен на 1980 год. На заре конца истории, написано в этой программе, применение принуждения должно уступить место регулирующей силе морали: «В процессе перехода к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера действия морального фактора и соответственно уменьшается значение административного регулирования взаимоотношений между людьми»64. Для того чтобы направить общество по этому пути, в новую программу был включен документ, не имевший прецедента в СССР: Моральный кодекс строителя коммунизма, своего рода маленький катехизис, включающий двенадцать добродетелей, которыми, как ожидается, будет обладать каждый человек. Само по себе содержание этого документа не является принципиально новым. Его авторы повторяют ленинскую идею о том, что мораль должна прежде всего служить делу коммунизма: статья 1 Морального кодекса – «преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине». Другие статьи касаются типично советских ценностей, таких как коллективизм (статья 5), или традиционных ценностей, которые уже были представлены в кампаниях за дисциплину и гражданственность, таких как «добросовестный труд на благо общества» (статья 2), «взаимное уважение» (статья 6), «честность» (статья 7) и «взаимное уважение в семье» (статья 8)65. Настоящая новизна Морального кодекса заключается в самом факте его формализации, что позволяет использовать его наибольшему количеству людей. В отличие от «неписаного кодекса коммунистической морали», который действовал при Сталине и монополией на легитимное толкование которого обладали должным образом уполномоченные органы, Моральный кодекс 1961 года нацелен на установление морального контроля общества над самим собой.
В своем выступлении на съезде партии, где была принята новая программа, Хрущев сказал: «Необходимо повысить внимание и требовательность со стороны общественности к поведению людей <…> Надо активнее использовать моральный вес и авторитет общественности для борьбы с нарушителями норм и правил социалистического общежития»66. Прежде всего партия стремится «собрать под свои знамена» представителей общественного мнения, которые печатаются в профсоюзных и комсомольских газетах и журналах, а также в изданиях творческих союзов и связанных с ними организаций. Партия призвала также на помощь общественные науки. Перед философами была поставлена задача разрабатывать и отстаивать Моральный кодекс, в то время как совершенствование методов нравственного исправления было поручено социологам, психологам и педагогам. Партия-государство ставит перед собой еще более амбициозную задачу: мобилизовать все население на практическое соблюдение норм коммунистической морали в повседневной жизни. Социолог Олег Хархордин показал, что в послесталинскую эпоху была широко распространена практика контроля, основанная на наблюдении людей друг за другом, чтобы побудить советских граждан к самосовершенствованию на каждом этапе жизни67. Таким образом, мораль, призванная постепенно заменить государственное принуждение, приобрела гораздо более широкую сферу применения, чем правила хорошей жизни для членов партии или культурность, которая, как ожидалось, будет присуща всему населению, считавшемуся в корне архаичным. Мораль стала поистине универсальной нормой, которую все советские граждане должны были соблюдать во всех аспектах своей жизни.
Отстранение Хрущева от власти в 1964 году притормозило реализацию этой амбициозной программы нравственного перевоспитания общества. Моральный кодекс был сохранен, но его роль – ослаблена, чтобы уступить место девизу «доверие к кадрам», который был направлен на защиту бюрократической иерархии от любой критики. Советская пресса, подвергнутая более строгой цензуре, стала теперь ограничиваться ритуальным восхвалением высокой морали советского образа жизни. Во многих исследованиях, посвященных этому периоду, отмечается, что упрощение идеологического дискурса с конца 1960‑х годов и далее приводит к разочарованию и к акценту на частной жизни, едва прикрытому тонкой оболочкой конформизма по отношению к социалистическим принципам. Это, несомненно, относится к новому поколению, которое повзрослело в 1970‑х годах, но было бы неточным тем не менее делать вывод о том, что моральные обещания советской модерности были отвергнуты, носили ли они модернизационный или романтический характер. Напротив, коррупция и цинизм, ставшие эндемичными в брежневскую эпоху, переживались многими советскими людьми как болезненное предательство фундаментальных принципов общества. Это чувство морального упадка, о котором мы уже упоминали, было причиной принятия в 1980‑х годах мер по исправлению нравов, которые достигли своего апогея в перестройку.
Перестройка и морализаторские кампании
Первые меры по преодолению ощущения морального упадка были введены Юрием Андроповым, преемником Брежнева и наставником Горбачева. Новый генеральный секретарь партии, вступивший в должность в 1982 году, был пуританским коммунистом, в значительной степени лишенным романтических чувств, но испытывающим глубокое отвращение к коррупции. Хорошо осведомленный о ее масштабах как бывший председатель КГБ, он взялся за чистку бюрократии от коррумпированных элементов и за повышение производительности труда, падение которой в то время объяснялось алкоголизмом и прогулами. Для этого Андропов пытается не мобилизовать общество, как это делал Хрущев, а дисциплинировать его. Проводятся полицейские рейды по ресторанам, общественным баням и кинотеатрам, чтобы «выловить» тех, кто бездельничает в рабочее время.
После преждевременной смерти Андропова и еще более короткого пребывания на посту его преемника, Константина Черненко, факел борьбы с моральной коррупцией был подхвачен Горбачевым и Егором Лигачевым, также бывшим протеже Андропова, который был тогда правой рукой Горбачева. Кампании по исправлению нравов, проведенные в первые два года перестройки (1985–1986), вписываются в официальную советскую доктрину, которая ставит моральное обновление в зависимость от усвоения норм, установленных партией. Доктрина, согласно которой, как мы видели, призывы к самореализации и к проявлению личной инициативы идут рука об руку с пропагандистскими мерами и усилением контроля.
Самой известной из мер, подготовленных тандемом Горбачев – Лигачев, является антиалкогольная кампания, начатая в мае 1985 года и направленная на повышение производительности труда. Введенные ограничения – повышение до 21 года легального возраста употребления алкоголя и резкое сокращение производства алкоголя – сопровождались широкой мобилизационной кампанией, призывающей население проявить инициативу, чтобы возродить нормы коммунистической морали. В том же году Горбачев празднует 50-летие стахановского движения, которое стало одной из самых ярких иллюстраций сталинского неоромантизма, подчеркивая его преемственную связь с «социалистическим соревнованием» и «моральными стимулами»68.
Еще одна ключевая мера была принята в 1985 году и выразилась в логике самореализации через интериоризацию. Речь идет о гласности, целью которой является «прозрачность» в общественной сфере. Частично ослабив гнет цензуры, партия отныне призывает СМИ публично изобличать отклонения от социалистических норм. Как часто отмечалось, гласность – это не свобода слова. Ослабление цензуры остается частичным, и ее применение зависит в конечном счете от доброй воли руководителей партии. Но с точки зрения Горбачева и его соратников, гласность – это нечто гораздо большее, чем свобода слова, чем абстрактное и формальное индивидуальное право. Гласность является мощным средством социальных преобразований путем разоблачения нарушений социалистических норм. По примеру Хрущева и в отличие от Андропова, Горбачев стремится мобилизовать общественное мнение для осуществления морального контроля за обществом. Он заявляет:
Гласность – действенная форма всенародного контроля за деятельностью всех без исключения органов управления, мощный рычаг исправления недостатков. В связи с этим пришел в движение нравственный потенциал общества. Разум и совесть в гармоничном порыве начали отвоевывать позиции у разъедавших душу пассивности и равнодушия. Конечно, мало только знать и говорить правду, главное – поступать, действовать на основе такого знания и понимания69.
Основываясь на «знании и понимании», принесенными гласностью, Горбачев ввел жесткие репрессивные меры против тех, кто считался коррупционером, начиная со спекулянтов, которые обогащались на черном рынке, и кончая бюрократами, злоупотребляющими своей властью. Цель – «ликвидация зон, закрытых для критики, и „оазисов“ с двойной моралью и беззаконием»70, еще оставшихся в здоровом в целом советском обществе, пагубные последствия которых особенно ощущала на себе молодежь. Что касается спекулянтов, то в мае 1986 года Горбачев начал кампанию по борьбе с нелегальными доходами. А для борьбы с бюрократами он в том же году провел масштабную чистку, крупнейшую в истории страны со времен Сталина71, под эвфемистическим названием «кадровая политика».
В соответствии с официальной марксистско-ленинской идеологией, которая воспринимает мораль в первую очередь как объект контроля и воспитания, кампании по исправлению нравов, проводившиеся в начале перестройки, были направлены на мобилизацию населения для изобличения моральных проблем общества, которые затем должны были быть исправлены благодаря укреплению партийного контроля. Такая интерпретация причин и путей выхода из морального упадка была характерна не только для руководителей партии. Примерно такого же мнения придерживались и социологи. Например, Андрей Здравомыслов, известный исследователь и один из основателей советской социологии, объяснял в 1988 году, что причиной «негативных явлений» советского общества, таких как бездушие, формализм, бюрократизм, безответственное отношение к работе, алкоголизм, преступность и коррупция, было ослабление «нравственных норм, регулирующих поведение человека»72. Если для «наиболее сознательных членов общества» эти нормы становятся принципами «личного поведения», то лицемерные меньшинства соблюдают их «чисто внешне», а на самом деле преследуют свои «личные, подчас материальные интересы»73. Социолог отвергает как упрощенную распространенную ранее идею о том, что такое отношение проистекает из «пережитков буржуазного прошлого» и поэтому должно исчезнуть с приходом социалистического общества. Напротив, повышение уровня жизни способствовало бы распространению «мелкобуржуазного» менталитета «мелкого собственника», «тенденций торгашества и вещизма»74. В социалистическом обществе, объясняет он, такое отношение коренится в любви к деньгам, которую он связывает с черным рынком, и в наслаждении властью, характерном для бюрократов. Эти коррумпированные меньшинства порождают, в свою очередь, скептицизм и цинизм в умах молодых людей, теряющих веру в принципы и идеи социализма, которые должны регулировать их поведение, и впадающих в алкоголизм, проституцию и наркоманию. Таким образом, перестройка представлена как моральное обновление социализма путем публичного разоблачения – благодаря гласности – двуличия коррумпированных меньшинств, к которым партия применяет дисциплинарные меры.
Это мнение находит широкий отклик в обществе, о чем свидетельствует судьба магазинов «Березка» в то время75. Созданные в конце 1950‑х годов для финансирования усилий по индустриализации, эти магазины позволяли покупать за иностранную валюту востребованные товары, особенно западного производства. Ставшие все более популярными в последующие десятилетия в связи с ростом уровня жизни и постоянного дефицита потребительских товаров, эти магазины не упоминались в советских СМИ вплоть до эпохи гласности, поскольку их существование противоречило принципам равенства, которые исповедовал режим. Когда цензура была, наконец, ослаблена, общественное мнение, рассматривавшее эти магазины как место удовлетворения эгоистических интересов привилегированного меньшинства, немедленно их заклеймило. Давление населения заставило Советское государство закрыть эту сеть магазинов в 1988 году и тем самым лишиться большой прибыли, которую они приносили. Общественное возмущение магазинами «Березка» иллюстрирует устойчивость нравственных идеалов в советском обществе в эпоху перестройки и помогает оспорить тезис о том, что поддержка реформ объясняется в первую очередь привлекательностью потребительского образа жизни капиталистических стран. Если богатство Запада имеет некоторое очарование, то расчетливый эгоизм и социальная фрагментация по-прежнему вызывают, по крайней мере у поколения шестидесятников, отвращение, навеянное романтическими идеалами советской модерности. Эти чувства разделяют и коммунистические реформаторы, такие как Горбачев, но также, и в еще более яростной форме, националистически настроенные интеллектуалы, которые считают западное влияние одним из главных источников морального разложения.
Националистическая критика
В то время как партия стремится привить нормы коммунистической морали, многие интеллектуалы выдвигают на первый план концепцию морали, которую они считают менее искусственной: эта мораль зиждется на совести и гарантируется сохранением традиционных ценностей. В отличие от социалистической морали, она не основана на интериоризации социальных норм, а появляется из глубины души как неотъемлемый атрибут человеческого духа. С этой точки зрения моральная ошибка объясняется не отсутствием контроля или недостатком воспитания, а решением каждого отдельного человека поступать по совести или нет. Этот выбор часто представляется как выбор между истиной и ложью. Поступать по совести – это говорить правду, раскрывая свою душу; говорить правду – значит повиноваться своей совести. По этой причине, а также в отличие от когнитивной сознательности, совесть не поддается количественному измерению. Невозможно «поднять ее уровень», можно лишь в каждый определенный момент говорить или не говорить правду, прислушиваясь к голосу совести. Начиная с 1950‑х годов эту концепцию морали защищали советские интеллектуалы, которые были возмущены катастрофическими последствиями коммунистической насильственной модернизации. Их критика моральной деградации часто принимала националистическую окраску, проявляющуюся в ностальгии по образу жизни и ценностям русского крестьянства, положенного Сталиным на алтарь индустриализации. Из-за этой ностальгии по сельскому миру таких писателей и эссеистов стали называть писателями-деревенщиками76.
До перестройки самым известным призывом к пробуждению совести был манифест Александра Солженицына «Жить не по лжи», опубликованный в самиздате на следующий день после его ареста КГБ в 1974 году77. В нем Солженицын изобличает «расчеловечивание» своих сограждан, которые, осуждая в частном порядке советский режим, готовы пойти на любой компромисс ради небольшого комфорта и безопасности. Для Солженицына величайшей ошибкой является думать, что политика и мораль определяются исключительно окружающей средой и социальными условиями, как утверждают те, кто оправдывает свое бездействие бессилием. Каждый человек имеет в себе силы противостоять злу: «А мы можем – все! – но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие не „они“ во всем виноваты – мы сами, только мы!» Выход, который он предлагает, заключается в сохранении «духовной независимости», гарантом которой Солженицын считает отказ от участия во «лжи». Он призывает своих сограждан воздерживаться от произнесения малейших фраз, искажающих правду, даже если это означает исключение из общества: «Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся: пусть владеет не через меня!» По Солженицыну, каждый человек обладает природной способностью отличать ложь от правды. Вот почему каждый сам выбирает свой лагерь.



