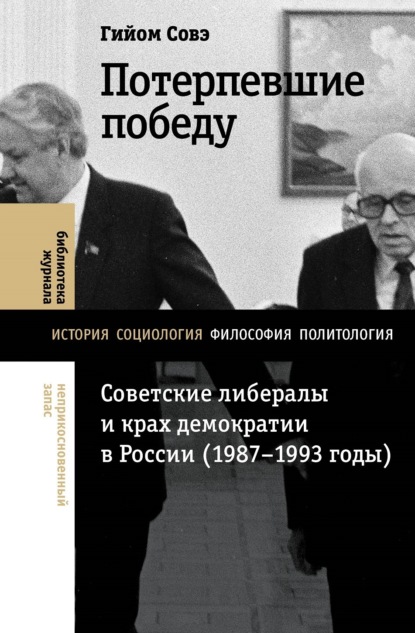
Полная версия:
Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)
Мы предлагаем рассматривать этот осознанный морализм скорее как стремление дать ответ на хорошо известный вопрос политической философии, особенно в ее республиканской традиции, которая заключается в необходимости основывать свободу на хорошей морали – вопрос, к которому мы вернемся в заключении. Интересно, что этот моральный проект не был исключительно советским, а широко распространялся по всему Восточному блоку, в частности в Чехословакии, ГДР и Польше. Хотя эта книга не претендует на всеобъемлющее сравнение политических и интеллектуальных событий в разных странах в тот период, она последовательно проводит параллели в надежде внести свой вклад в преодоление разрыва между двумя академическими областями, которые часто исследуют изолированно друг от друга, – изучением перестройки в СССР и изучением революций 1989 года в Восточной Европе.
В главе 3 мы реконструируем противоречивые ожидания советской либеральной интеллигенции в отношении эмансипированной публичной сферы, разрывавшейся между стремлением к полному и искреннему выражению личной совести (что предполагало признание интеллектуального и идеологического плюрализма) и продвижением всеобъемлющей концепции «общечеловеческих ценностей» как единственной основы морального оздоровления общества (что предполагало очищение публичного дискурса в соответствии с критерием абсолютной истины, тем самым подрывая стремление к плюрализму). Эта напряженность между плюрализмом мнений и моральным монизмом придает политическому дискурсу советских либералов двусмысленный характер: освободительный в своем неприятии любой идеологической ортодоксии и монополии на истину и в то же время бескомпромиссный в своей склонности отвергать как ложь принципы, отстаиваемые их коммунистическими и националистическими оппонентами, которые к тому же без колебаний делают то же самое. В 1987 и 1988 годах, когда в медиапространстве, ставшем более свободным из‑за ослабления цензуры, разгорелись яростные дебаты, лишь немногие советские либеральные интеллектуалы ощутили напряжение между выражением совести и торжеством правды. Они считали, что демократизация требует консолидации власти реформаторов для преодоления сопротивления «противников перестройки» и проведения политических и экономических реформ, которые должны создать нравственные условия для установления демократии.
Вторая часть книги посвящена дилеммам, с которыми сталкиваются либеральные интеллектуалы начиная с 1989 года, по мере того как дебаты в средствах массовой информации уступают место открытой политической борьбе. Вопреки ожиданиям многих, ослабление цензуры привело не к консолидации общества вокруг общих ценностей, а к растущей поляризации мнений и интересов. В главе 4 показано, что либеральные интеллектуалы, участвовавшие в политической жизни, разделились в вопросе о том, как они должны относиться к реформаторской власти, которая отказывалась прислушиваться к их советам, когда появляется возможность возглавить широкое народное движение. Вопрос о власти (кто и как управляет), который долгое время игнорировался в пользу личных и общечеловеческих требований, считавшихся более важными, отныне становится главным, вызывая самую разную реакцию. Все более радикальная нравственная оппозиция либеральных интеллектуалов коммунистической системе не ведет автоматически к их политической оппозиции советской власти, как это часто предполагается; напротив, значительная часть либеральной интеллигенции систематически сопротивляется идее формирования политической оппозиции и безоговорочно поддерживает реформаторов, чтобы защитить их от разъедающего воздействия конфликтов ценностей и интересов. Мы выдвигаем тезис, противоречащий репутации политического экстремизма, который в России обычно ассоциируется с либеральными интеллектуалами перестройки, поскольку оказывается, что большинство из них постоянно стремились к консолидации исполнительной власти, чтобы предотвратить любые революционные вспышки. Таким образом, парадоксально, сами того не желая, они помешали институционализации конфликта в демократических рамках.
Глава 5 посвящена наиболее экстремальной реакции на социальную поляризацию в этом контексте – отказу некоторых либеральных интеллектуалов от их общего морализма в пользу авторитарного и технократического перехода к демократии и рыночной экономике. Однако анализ дебатов 1989 года по поводу предложения доверить демократизацию реформирующему «железному кулаку» показывает, насколько разнообразными были взгляды советской либеральной интеллигенции на вопрос о власти и ее отношении к морали. Относительный консенсус, достигнутый в этой среде по вопросу о конечной цели реформ, скрывает глубокие разногласия, касающиеся способов их реализации.
Уже в 1990 году мы видим, как внутри демократического движения происходит столкновение различных политических стратегий, когда многие либеральные интеллектуалы окончательно отказываются от социализма и переходят на сторону более последовательного реформатора Бориса Ельцина. Изучение этих дебатов в главе 6 проливает новый свет на источники авторитаризма в современной России: многие ведущие деятели либеральной интеллигенции, обеспокоенные растущим хаосом политической жизни, активно поддерживали всемогущество президентской власти, чтобы уберечь рождающуюся демократию от реванша антилиберальных сил и морального разложения народа. Так, мы продолжаем и уточняем аргументы тех, кто видит основы власти Владимира Путина в концентрации власти и в социальной изоляции новой политической элиты с конца перестройки27.
Это понимание источников авторитаризма не означает, однако, однозначного осуждения. Ответственность советской либеральной интеллигенции за укрепление авторитарной власти не оправдывает, на наш взгляд, пренебрежительного забвения, которому были преданы ее идеалы. Действительно, глубокое разочарование 1990‑х годов не только дискредитировало триумфализм первых научных толкований, как мы видели ранее. Во имя прагматизма и реализма, которые в современной России стали своеобразными догмами, многие постсоветские российские либеральные интеллектуалы сами склонны считать стремления, связанные с реформой социализма, признаками детской наивности. Моральные и политические дилеммы перестройки теряются во многих ретроспективных описаниях, представляющих собой повествование, герои которого постепенно преодолевают свои прежние иллюзии28. В некотором смысле символическая революция перестройки является жертвой собственного успеха: она не дает возможность понять условия, которые ее породили29. Вот почему важно напомнить, каковы были ее первоначальные нравственные устремления. Аналогичным образом, поддержка большинством либеральных интеллектуалов укрепления власти Ельцина не должна заслонять другие, хотя и малочисленные, но тем не менее весомые предложения о создании независимой демократической оппозиции, которая бдительно следила бы за действиями реформаторов. Поэтому мы считаем важным упомянуть об этих забытых вариантах, добавив некоторые нюансы к очень распространенным сегодня лапидарным суждениям о либеральной интеллигенции эпохи перестройки, чтобы напомнить, что ее морализм не всегда выливался в поддержку авторитарной технократии, но мог послужить вдохновением для демократии, основанной на общих ценностях.
Использованные материалы
Либеральный интеллектуал Дмитрий Фурман писал в 1995 году, что антикоммунистическая революция в России не опиралась «ни на крупных идеологов-мыслителей, ни на развернутую и продуманную идеологию или философию»30. Выбор материалов для нашей работы определяется этим двойным ограничением. С одной стороны, мы изучаем политическую мысль либеральной интеллигенции в трудах ряда авторов, которые, хотя и были очень известны в годы перестройки, сегодня, скорее всего, совершенно незнакомы тем, кто не жил в это время в России. Подобный способ отбора, помимо того что позволяет расширить изучение истории политической мысли, не ограничиваясь только «громкими именами», обусловлен свойственным перестройке обстоятельством, а именно отсутствием устоявшегося корпуса канонических авторов. Если исследователь, работающий над идеями Французской революции, не может обойти вниманием Кондорсе, Робеспьера и Сен-Жюста, если имена Ленина и Троцкого спонтанно приходят на ум тому, кто работает над Октябрьской революцией 1917 года, то кто же великие умы либеральной интеллигенции перестройки? Проблема, конечно, не в отсутствии блестящих мыслителей, а в том, что ни один из них не выделяется достаточно явно, чтобы можно было отбросить остальных31. Можно было бы говорить обо всех сразу, но при таком подходе есть риск распылиться настолько, что потеряешь из виду связь дискурса с событиями, а это создает ложное впечатление единомыслия в то время32. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на небольшой группе авторов, которые были особенно активны в прессе и политической жизни того периода благодаря своим частым выступлениям в СМИ. Это историки Юрий Афанасьев и Леонид Баткин, литературные критики Юрий Буртин и Юрий Карякин, журналист Лен Карпинский и физик Андрей Сахаров. Этих интеллектуалов связывает общий опыт: вклад в знаменитый сборник «Иного не дано», опубликованный в 1988 году, а также основание и деятельность «Московской трибуны», самого престижного политического клуба в столице33. Очевидно, что сами по себе они не составляют всю либеральную интеллигенцию эпохи перестройки, но являются яркими представителями ее основного течения, олицетворяемого московскими интеллектуалами так называемого поколения шестидесятников (весьма политизированного в контексте десталинизации 1960‑х годов). К тому же эти шесть интеллектуалов не являются исключительным объектом изучения в данной книге; они просто находятся в фокусе нашего внимания, что позволяет рассмотреть основные направления дебатов советской либеральной интеллигенции, приверженной демократизации в период с 1987 по 1993 год. Прослеживая динамику этих дебатов, наше исследование дает возможность высказаться и другим представителям этой интеллигенции, а также интеллектуалам-националистам и консервативным коммунистам. Опираясь на группу основателей «Московской трибуны», мы воссоздаем широкую мозаику авторов, связанных с разными идеологиями и поколениями.
Политическая мысль, что лежит в основе данной книги, не является доктриной, тщательно разработанной профессиональными философами. Охваченные активизмом, очень немногие интеллектуалы имели время или желание систематически изложить свои идеи в виде монографии. Их идеи носят полемический характер, столь характерный для интеллектуальной сферы времен перестройки. Речь идет о публицистике, литературном жанре, типичном для интеллигенции (не претендовавшей на то, чтобы играть роль специализированного эксперта), который был рассчитан на образованную публику и отсылал охотнее к литературе (Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Чехову), чем к научной или философской терминологии. Публицистика появлялась в газетах в виде колонок, редакционных статей или заметок, а также в ежемесячных толстых интеллектуальных журналах, где соседствовала с художественной литературой и литературными эссе, следуя традиции, установившейся с XIX века. Наш корпус источников содержит около 200 документов того периода. Большинство из них – публицистические статьи, с которыми мы ознакомились в специализированных библиотеках России, Франции и США. Чтобы не попасть в ловушку анахронизма, мы основываем наши выводы в основном на указанных источниках того периода, а не на ретроспективных свидетельствах, которые мы также собрали в интервью с представителями интеллигенции и их родственниками. Эти интервью помогли нам сориентироваться в дебатах того времени – вклад, который не отражен в справочном аппарате, но который, как мы надеемся, ощутим в нашей реконструкции исторической ткани интеллектуальной и политической жизни перестройки.
Глава 1
Нравственный вызов перестройки
Сегодня наиважнейшая задача – поднимать человека духовно, уважая его внутренний мир.
Михаил Горбачев, 1987 год34Мораль – одна из самых распространенных тем в политическом дискурсе ранней перестройки. От руководителей до диссидентов, от коммунистов до националистов и либералов – все говорят о сильном чувстве нравственного упадка в советском обществе, для которого характерны распространение лицемерия и цинизма, а также моральная дезориентация молодежи. Относительно стабильная экономическая ситуация не препятствовала ощущению «деградации», «развращения» и «разложения». Это ощущение порождает, в свою очередь, бесчисленные призывы к «обновлению», «очищению», «оздоровлению» нравов. В этом контексте перестройка была широко воспринята в обществе как спасительная попытка исправить моральное разложение, которое считалось все более невыносимым. «Так жить нельзя!» – это был настоящий крик души того времени35.
Ощущение упадка
Конечно, далеко не все одинаково ощущали нравственный упадок. На самом деле это ощущение связано с такими полярными предложениями, что сегодня возникает соблазн рассматривать его просто как риторический эффект, лишенный какого-либо существенного содержания, скрывающий «реальные» экономические и политические проблемы. Но это было бы серьезным просчетом и упущением из виду одной из главных характеристик культурного контекста, в котором возникла перестройка. Ни разу с момента образования СССР тема нравственности не занимала такого важного места в советской общественной жизни, как в эпоху Горбачева, в том числе в официальных партийных документах36. Поэтому, несмотря на порой туманный характер нравственного дискурса того времени, к нему следует относиться серьезно, чтобы определить вызовы, на которые стремились ответить интеллектуалы, занимавшиеся политикой в то время. К ним относится и либеральная интеллигенция, чей отказ от марксизма-ленинизма не означает, что она порвала со всеми идеями и убеждениями, распространенными в СССР. В середине 1980‑х годов, то есть к тому моменту, когда либеральные интеллектуалы стали выступать в публичном поле, как и их консервативные коммунистические и националистические коллеги, они не могли игнорировать ощущение морального упадка советского общества и сопутствующее ему стремление к очищению.
Изучение нравственного аспекта перестройки позволяет нам дать качественную оценку решающему изменению, которое сопровождало появление либеральных идей в советской общественной сфере в более широком контексте истории современной политической мысли. Мы интерпретируем это изменение как кульминацию политического романтизма. Во избежание недоразумений проясним с самого начала, что мы не воспринимаем понятие «романтизм» в его тривиальном политическом смысле, который означает идеалистическое, поверхностное и пассивное умонастроение37. Мы не намерены просто повторять это общее место из распространенного дискурса постсоветских российских элит, который заключается в дискредитации «романтизма» перестройки, чтобы лучше подчеркнуть «прагматизм» и «профессионализм», якобы необходимые для «серьезной» политики38. Мы же рассматриваем политический романтизм не как умонастроение, а как идеологическую традицию, то есть как относительно последовательный набор постулатов, концепций и идеалов, которые можно наблюдать в дискурсе. Как считают философ Майкл Лёви и социолог Роберт Сэйр39, романтизм – это течение мысли, возникшее в XIX веке, выражающее протест против разлагающего влияния модерности – против духа инструментального расчета, отдаления развитых обществ от мира природы, квантификации бытия, разрушения социальных связей, господства бюрократов – и взывающее к утраченному и идеализированному прошлому. Этот меланхолический протест основывается на двух основных позитивных ценностях. Первая ценность – выражение богатства личности. В этой связи необходимо подчеркнуть, что романтизм – это явление Нового времени, которое является результатом распада традиционных сообществ и возвышения индивидуума как такового. Вторая великая ценность романтизма – это интеграция личности в социальное и универсальное целое. В противовес фрагментации обществ Нового времени романтики стремятся вновь обрести первозданную гармонию между людьми, а также с природой. Из этого вытекает типично романтическая критика современных им политических режимов как механических, искусственных, безжизненных и бездушных систем.
Если романтизм родился как реакция на пагубное влияние рационалистической веры в прогресс эпохи Просвещения, то его отличает не только консервативный характер. Действительно, превратности политической и интеллектуальной истории породили формы примирения романтических устремлений с модернизмом эпохи Просвещения. Как отмечает философ Чарльз Тейлор40, марксизм можно считать самой влиятельной из этих попыток синтеза, поскольку он объединяет понятие рационального научного прогресса с идеалом человечества, примирившегося в конце концов с самим собой и с природой, освободившегося от отчуждения, которое присуще капиталистической модерности. Эта двойственность лежит также в основе концепции морали, продиктованной официальной советской доктриной марксизма-ленинизма на заре перестройки – доктриной, которую нам необходимо изучить, чтобы понять, против чего была направлена нравственная критика либеральных интеллектуалов и их националистических соперников.
Нравственная доктрина марксизма‑ленинизма
На первый взгляд марксизм-ленинизм как материалистическая идеология чужд всяким моральным соображениям. Существует предрассудок, особенно широко распространенный среди советской либеральной интеллигенции41, что марксизм-ленинизм содержит строго инструментальную концепцию морали, суть которой ограничивается безусловным требованием служить государству и делу революции, отрицая тем самым личностный фактор, который придает особую ценность нравственному поступку. Таким образом, советская идеология представляется духовной пустыней, где мораль выжила бы только в нескольких оазисах диссидентской мысли. Это мнение нуждается в уточнении в свете многочисленных усилий, предпринимавшихся на протяжении десятилетий, чтобы интегрировать нравственность в доктринальные рамки марксизма-ленинизма. Данное явление совершенно не носит маргинальный характер: в конце 1960‑х годов один американский философ подсчитал, что в СССР объем научной литературы о морали намного превышал то, что было написано на эту тему на Западе42. В это же время развитие личности стало одной из любимых тем исследований советских общественных наук43, а в советских массовых биографиях «пламенных революционеров» она была возведена в ранг важнейшего критерия при определении модели поведения44. На самом деле мы видим, что «идеологически правильная» концепция морали в постсталинском СССР гораздо сложнее, чем прагматичное поведение, которое часто изображалось в карикатурном виде. Этот нюанс важно отметить не для того, чтобы реабилитировать образ марксизма-ленинизма, но чтобы понять, как советская идеология была способна питать семена своей собственной критики.
Для того чтобы определить официальную концепцию морали на заре перестройки, мы опираемся на два авторитетных источника того времени: это последняя версия Большой советской энциклопедии, многочисленные тома которой выходили с 1969 по 1978 год, и последняя доперестроечная версия «Учебника по научному коммунизму», опубликованная Политиздатом в 1983 году. В Энциклопедии дается официальное определение морали, в то время как Учебник объясняет роль, которую она играет в том, что тогда называлось «развитым социализмом». Согласно Энциклопедии, мораль, нравственность – это «один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе»45. В отличие от закона и обычаев, она не основана на институциях или привычках, а формируется в процессе сознательного усвоения норм, которыми человек руководствуется в своем поведении. Короче говоря, мораль приходит к человеку извне. Это отражает технократический характер марксистско-ленинской доктрины: мораль мыслится в ней прежде всего как продукт производства Партии-государства. В соответствии с тезисами исторического материализма мораль формируется прежде всего под воздействием «объективных факторов», то есть благодаря трансформации производственных отношений, которая сопровождает построение коммунизма. Эти объективные факторы, однако, не считаются достаточными. Несмотря на «благоприятные условия», созданные социализмом для «полного удовлетворения материальных и моральных потребностей человека», официальная доктрина признает необходимость «постоянно повышать идейно-нравственный и культурный уровень людей», чтобы не давать «рецидивов мещанской, мелкобуржуазной психологии»46. Именно здесь реализуется воспитательная миссия партии, которая, не ограничиваясь школьной средой, стремится привить всем гражданам «марксистско-ленинское мировоззрение» и «основополагающие принципы и нормы коммунистической морали», изложенные в Моральном кодексе строителя коммунизма, который прилагался к программе партии47. В целом мораль рассматривается как «сознательность» и «сознание», то есть как когнитивная способность усваивать предписанные нормы. Более того, эта когнитивная способность поддается количественной оценке: научный коммунизм измеряет нравственность общества в соответствии с его «уровнем сознательности», который может как повышаться, так и понижаться.
«Учебник по научному коммунизму» настаивает на динамическом характере усвоения морали: «Выработка коммунистической морали не односторонний процесс, где человек лишь пассивный объект воспитания. Успех коммунистического воспитания личности зависит не только от объективных факторов и идеологической работы, но и от самой личности, от ее стремления к самосовершенствованию»48. Это означает, что учение партии не должно оставаться мертвой буквой; оно должно применяться на практике: «Однако знания сами по себе еще не составляют мировоззрения. Необходимо, чтобы они переходили в глубокие, внутренние убеждения человека, выражались в его практическом, деятельном отношении к окружающему миру»49. Понятие «активность» обычно связывается с духом инициативы, который советские люди должны проявлять, чтобы реализовать на практике принципы социалистической морали. Этот акцент на практическом выражении глубоких убеждений сопровождается типично романтическим призывом к самореализации: «Коммунизм – это строй, где полностью раскрываются способности и таланты, лучшие нравственные качества свободного человека»50. Таким образом, партия ставит перед собой цель обеспечить «целенаправленное формирование всесторонне развитых людей, гармонически сочетающих высокую идейность, трудолюбие, организованность, духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство»51. Это романтическое стремление отражено в многочисленных публикациях, предназначенных для широкой публики. Например, серия «Личность, мораль и воспитание», которая насчитывает более 30 книг, опубликованных Политиздатом с 1979 года, чья явная миссия заключалась в том, чтобы руководить развитием «социалистической личности», то есть «духовно богатой, душевно щедрой, творческой, обладающей активной жизненной позицией личности, способной принимать самостоятельные нравственные решения в сложных жизненных ситуациях и нести ответственность за совершенные поступки»52. Марксизм-ленинизм в целом выступает как за усвоение предписанных норм, так и за претворение в жизнь глубоко укоренившихся убеждений. В принципе эти моральные задачи не должны являться источником напряженности: контроль и выражение своих убеждений – две грани одного и того же видения морали как когнитивной способности усваивать и соблюдать нормы, предписанные и внедренные Партией-государством. Это сложное определение, сформулированное в официальных документах в начале 1980‑х годов, отражает, в свою очередь, различные устремления, лежащие в основе проекта советской модерности.
Обещания советской модерности
Философ Клод Лефор писал, что логика тоталитарной власти основана на двух, казалось бы, противоречащих друг другу принципах: с одной стороны, общество мыслится как организм, «как огромное тело, органы и конечности которого функционируют как единое целое»53; с другой стороны, общество представляется как искусственный результат сознательной работы Партии-государства в соответствии с положениями научной доктрины. Двойственность, отмеченная Лефором, объясняется особой связью советского режима с модерностью: коммунизм представлен как технократическая утопия, радикализирующая рационалистические идеалы Просвещения, но имеющая также целью создание гармоничного сообщества, свободного от социального разделения и отчуждения, вызванного капиталистической модерностью. Эта двойственность проявляется в официальной советской политике в отношении морали, которая использует современные инструменты контроля, образования, количественной оценки и рационализации с целью продвижения типично романтического идеала самореализации в естественно гармоничном сообществе. Однако в течение всей истории советского режима средства, использовавшиеся им для выполнения своих нравственных обещаний, сильно изменились, поскольку акцент сместился с дисциплины и внешнего контроля в сторону мобилизации и самовыражения. Рассмотрим эту эволюцию в историческом плане.



