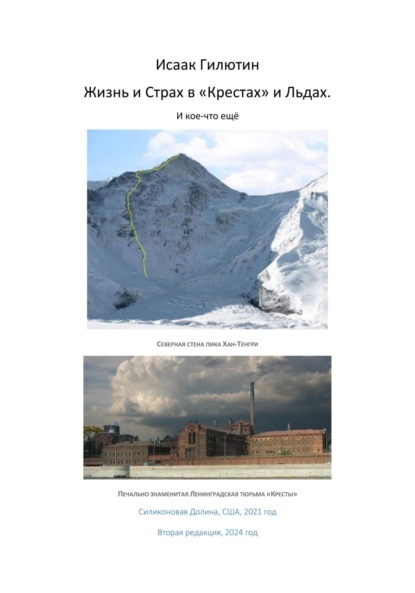
Полная версия:
Жизнь и страх в «Крестах» и льдах. И кое-что ещё
Увлечение общественной работой
Теперь пора вернуться к моей работе в ЦНИИ «Электроприбор» или п/я (почтовый ящик) 128. «Положа руку на сердце», я не могу сказать, что был уж очень ценным приобретением для своей лаборатории и единственным (хотя вовсе неубедительным) оправданием этому могла быть пословица, по которой в то время жила почти вся страна: «они (имеется в виду государство) делают вид, что платят нам за наш труд, а мы делаем вид, что работаем». Тем не менее, через 1,5 года после начала моей работы в «Электорприборе», мне повысили зарплату с 90 рублей до целых 100 рублей (~$65) в месяц! Однако в эти первые годы меня больше интересовала общественно полезная работа, очевидно, унаследованная от моих студенческих лет. Я почти сразу стал председателем альпинистской секции и в таком качестве начал с большим успехом «обогащаться» за счёт принадлежности нашей фирмы к ВПК. Поскольку фирма занималась конструированием опытных образцов систем навигации для ракет, запускаемых с подводных лодок, в ней было неограниченное по тем временам (по крайней мере, так мне казалось) количество титана, очень прочного и лёгкого материала. Но как раз из-за этих свойств он является очень дорогим стратегическим материалом для авиационной промышленности. В то же время все альпинисты-спортсмены знали, что титан благодаря своей прочности, лёгкости (он в два раза легче стали) и, что очень важно для надёжности страховки в горах, вязкости, ещё более хорош для наших профессиональных потребностей – скальных и ледовых крючьев, лесенок и карабинов. Однако не всем альпинистам повезло работать на такой фирме. Естественно, я серьёзно занялся претворением в жизнь этой тематики, подключив для этого профсоюз, спорт клуб, и металлообрабатывающий цех. Начать, конечно, пришлось с генерального директора предприятия Грибова В. М., который, как оказалось, был вполне демократических правил. К нему, конечно, было совсем не просто попасть на приём, но тут всегда неоценимую помощь оказывала мне его пожилая очень интеллигентная секретарша. Почти всегда при моём появлении в её приёмной она мне говорила:
– Посидите минут десять, как только такой-то начальник цеха выйдет от него, так я вас сразу и впущу.
Представьте себе, как я в первый раз оказался за двойной, обитой чёрной кожей, дверью и шагнул в громадный кабинет Грибова В. М., в котором стоял необозримых размеров стол для заседаний не менее, чем на 30 человек. Можете себе представить уровень этого человека, если в то время у него был ещё один выход в заднюю комнату отдыха, где были личный душ и туалет. Сегодня, конечно, этим никого не удивишь, особенно в частных компаниях, а тогда это много говорило об общественном статусе этого человека. Впоследствии мне пришлось приходить к нему со многими другими просьбами, но первый раз оставил во мне неизгладимое впечатление.
Итак, я появляюсь перед ним и подаю ему две бумаги – одну с просьбой к отделу снабжения отпустить ни много, ни мало, а 100 килограммов (напоминаю, это стратегический и очень дорогой металл, который вообще нигде не продаётся) титановых листов разной толщины (ведь мы используем крючья разных размеров, в зависимости от величины и направления скальных трещин), другую – обращение к начальнику металлообрабатывающего цеха с просьбой помочь в производстве скальных крючьев в количестве 200 штук в номенклатуре согласно прилагаемому перечню и чертежей. Обе бумаги подписаны мной, как председателем альпинистской секции, заверены в спорт клубе и профсоюзе, и теперь нуждаются в резолюции директора. Грибов, естественно, требует от меня объяснений – что всё это значит? Пришлось мне объяснить, что крючья в горах используются для страховки и что до сих пор мы использовали стальные, но они тяжёлые, а нам на восхождения нужно их очень много и, чтобы облегчить тяжёлую участь наших несчастных альпинистов, нам непременно они нужны из титана. Пока он раздумывал над тем, что я ему поведал, я решил, что надо добавить козырей и сказал:
– Вы ведь не хотите, чтобы следующим летом кто-то из наших альпинистов, институтских или заводских, сорвался и погиб по причине вырванного при срыве железного крюка? Разве жизнь наших сотрудников не стоит какого-то там паршивого титана?
После моей тирады Грибов решил не брать на себя потенциальный грех и наложил положительную резолюцию на обе бумаги. Я, конечно, совершенно не заморачивался, кто и как будет за всё это платить: прожив, к тому времени в Советском Союзе 24 года, я хорошо усвоил ещё из школьных уроков, что все необозримые богатства страны принадлежат народу и вопрос состоит только в том, как получить свою причитающуюся долю. Думаю, что титан был оплачен профсоюзом, а может просто списали это количество на производственные отходы. Что же касается самого производства крючьев, то тут всё было просто: принёс я бумагу с резолюцией директора начальнику цеха и в дополнение указал на человека в его цеху, который добровольно согласен сделать нам крючья в свободное от основной работы время и ему для этого нужно только разрешение начальника. А дальше было ещё проще. У меня был друг, мой ровесник и альпинист, он же врач и к. м. н. Вадим Гриф, которому, в свою очередь, чуть ниже будет посвящена целая глава в связи с его трагической гибелью через шесть лет. А в то время мы с Вадиком организовали настоящий бартер: поскольку он был научным сотрудником в одном из медицинских научно-исследовательских центров, он имел практически неограниченный доступ к чистому медицинскому спирту, а я, в свою очередь, неожиданно получил почти такой же неограниченный доступ к производству крючьев. Здесь я обязан объяснить для молодого читателя, что в то время медицинский спирт был совсем нешуточной валютой – на него очень многое можно было обменять или купить (конечно, не в магазине). Думаю, что даже и молодой читатель знает, что СССР был самой пьющей страной на планете и пили там не только водку, но и всякую спиртосодержащую химию от недостатка средств, а чистый медицинский спирт и вовсе считался водочным деликатесом. Его не только разводили с водой и в таком виде употребляли, но гурманы также делали из него очень даже вкусные ягодные и прочие настойки.
Дальше техника сделки была очень простой: получая от Вадика спирт, я передавал его тому человеку, который «добровольно» взялся помогать альпинистам в деле производства крючьев и который теперь, уже имея на то официальное разрешение своего начальника, всю работу по производству крючьев производил, конечно, в своё рабочее время. Таким образом, за несколько месяцев было произведено около 200 скальных крючьев из титана, которые я по-братски распределил на три части: одна досталась Вадику, вторая мне, а третью я решил, что будет правильно, отдать единственному в то время очень сильному скалолазу, альпинисту и просто хорошему человеку в нашей секции Адику Грачёву. Я посчитал, что при таком раскладе никто и никогда не сможет обвинить меня в том, что я использовал своё служебное положение для личной выгоды. Я решил, что можно не делиться с другими членами секции, поскольку в то время других серьёзных спортсменов в ней не было.
Теперь, став председателем альп. секции, я регулярно два раза в год (на майские и ноябрьские праздники) приносил составленные мною же списки на освобождение от работы с сохранением содержания всех желающих альпинистов для поездки на скалы и участия в скалолазных соревнованиях. При этом профком ещё оплачивал всем нам продукты из расчёта 2 рубля 60 копеек в день на человека, как нормальным командированным, и мы отоваривались на всю сумму в институтской столовой. Кстати, для общего питания большого коллектива это была довольно большая сумма, и чтобы выбрать её полностью, приходилось отбирать в столовой самые дорогие продукты, типа копчёной колбасы и прочих деликатесов. Как видите, мы на скалах не только хорошо лазили, но и хорошо питались. Сам я вместо «Электроприбора» на скалы ездил со своим ЛИТМО, в котором после окончания ещё много лет состоял (умышленно не употребляю слово работал, потому что не получал за это зарплату) тренером и там же с ними я и сам тренировался. Тем не менее, свою продуктовую долю из «Электроприбора» я всё-таки забирал и передавал её в ЛИТМО. Написал я этот абзац и тут же подумал: какая же эта хорошая была страна Советский Союз – мы ездили за своими удовольствиями, а нам эти удовольствия оплачивали со всех сторон. Как жаль, что его больше нет! Добавлю к этому, что перед каждым летним сезоном я приносил Грибову ещё и список альпинистов, которым было необходимо предоставить заслуженный отпуск непременно в летний период. Он, конечно, его подписывал без разговоров, а с его подписью вертикаль власти всегда работала без сбоев. Оглядываясь назад, вертикаль «Электроприборовской» власти мне очень сильно напоминает власть Путина в сегодняшней России – главное – это иметь доступ к «телу».
Первый подъёмник в Кавголово – мой и «Электроприборовский»
Теперь перейдём к моему главному детищу в «Электроприборе» на почве спорта.
В «Электроприборе» была довольно большая слаломная секция, членами которой состояли в основном молодые инженеры, но был там также один человек более среднего возраста – начальник лаборатории по имени Александр Иванович Иванов. Я упоминаю здесь его имя потому, что у него были большие связи в институте и на заводе, т. к. начальником лаборатории он стал уже после работы секретарём парткома всего предприятия в течение нескольких предшествующих лет. А в том проекте, о котором я намереваюсь рассказать, связи имели очень важное значение, впрочем, они везде и всегда имеют значение.
В отличие от альпинизма, слаломистом в то время я был, можно сказать, начинающим, не подающим никаких серьёзных надежд, а вот энергии, похоже, во мне было в избытке. Когда я пришёл первый раз на собрание секции, то в качестве новичка задал всем присутствующим дурацкий вопрос:
– А почему бы нам не построить в Кавголово (это лыжная Мекка под Ленинградом) подъёмник для нашей секции?
Все присутствующие одарили меня взглядом, которого дурак и заслуживает. Я попросил объяснений. Мне тут же ответили риторическим вопросом:
– Ты думаешь ты первый выступаешь с этим предложением?
Затем пояснили мне, что мысли об этом приходят каждый год, но от мыслей до дела дистанция огромного размера. На что я нагло ответил:
– Ну хорошо, давайте попробуем ещё раз.
На мой ответ возражений не последовало, но в их взглядах я увидел ничем неприкрытую насмешку надо мной. Такое отношение меня ещё больше раззадорило. На этом мы и разошлись. Собрание происходило летом, когда до следующего лыжного сезона оставалось месяцев пять и я решил, что этого времени должно хватить, чтобы в следующем сезоне все члены секции больше не ползали по горе вверх, а пользовались для этой цели подъёмником. Следует заметить, что до этого в Кавголово не было ни одного подъёмника, хотя разговоров об этом было много.
Вообще-то, для непосвящённого человека может показаться, что проект этот не такой уж сложный и большой. Для подобного читателя приведу перечень малых проектов, из которых состоял большой:
1)
Основная работа:
– Сконструировать сам подъёмник
– Отлить в литейном цехе главный шкив диаметром 60 см и шириной 10 см, а также и вспомогательный шкив значительно меньшего размера
– Достать двигатель с нужными характеристиками чтобы он был способен тянуть одновременно 5–6 слаломистов
– Достать металлический трос диаметром 8 мм и длиной не менее 300 м
– Сконструировать 3 промежуточных и две крайних опоры для троса
– Достать 3 бетонных столба самой большой высоты, на которых можно подвесить уличные фонари самой большой мощности для освещения склона в ночное время
– Сконструировать и сделать железную будку размером 3х3х3 м3 с входной дверью, закрывающейся на навесной замок, где подъёмник должен находиться и сохраняться, как в зимний, так и в летний период
– Сконструировать и произвести достаточное количество зацепов, которыми слаломисты будут зацепляться за трос
2)
Вспомогательная работа:
– Купить у Кавголовской местной администрации кусок земли, которая должна состоять из склона для самого катания и немного в стороне от неё место для подъёмника
– Получить разрешение у той же администрации на вырубку деревьев и кустарника шириной четыре метра вдоль всего склона
– Обеспечить установку нескольких электрических столбов до ближайшей линии электропередачи
– Обратиться в Ленэнерго за подключением к электрической сети и обеспечить гарантии уплаты используемой электроэнергии
– Физически вырубить деревья и кустарник под подъёмник, а также очистить от кустарника весь склон, где мы собираемся кататься
– Доставить уже готовый подъёмник, металлическую будку, опоры подъёмника и уличные фонари освещения от нашего завода к месту установки в Кавголово
– Установить и зацементировать опоры подъёмника и уличных фонарей освещения
– Наконец, произвести окончательную установку, сборку всех частей и регулировку подъёмника
Естественно, что самой главной частью проекта было сконструировать сам подъёмник и запустить его в производство. Было ясно, что другие части проекта нет смысла начинать, пока люди не поверят в его осуществимость, а это может произойти только, когда можно будет предъявить хотя бы готовые чертежи самого подъёмника. Поскольку моя идея вызвала у слаломной публики вполне объяснимый скептицизм, я понял, что для того, чтобы привлечь на свою сторону реальных помощников, я должен им продемонстрировать какие-то реальные подвижки в проекте.
Начал я с того же, с чего начинал производство титановых крючьев. Написал кучу бумаг от имени директора Грибова, адресованных начальникам всех отделов и цехов завода, от которых теперь зависит судьба моего проекта, как-то: конструкторского бюро (КБ), отдела снабжения, отдела закупок, литейного цеха и т. д. С этими бумагами уже привычным маршрутом я направился в директорскую приёмную. В отличие от титановых крючьев, мне показалось, что в этот раз моя новая инициатива понравилась Грибову значительно больше: во-первых, этот проект не требовал очень дорогого стратегического титана, во-вторых, он даже не скрывал от меня своей заинтересованности в том, чтобы наше предприятие стало первым в Ленинграде, которое имеет собственный лыжный подъёмник в Кавголово. Короче, ему эта идея понравилась, и я без проблем и дальнейших объяснений получил его резолюцию на все мои бумаги.
Тут я предвижу многочисленные вопросы от молодых читателей, особенно никогда не живших в Советском Союзе:
– А к какой собственно работе меня готовили почти шесть лет в ЛИТМО и разве не на математическое моделирование систем управления динамических объектов был я принят на работу в «Электроприбор»?
Вопрос этот очень справедливый и ответить на него нелегко, а молодым понять его будет и того труднее.
С одной стороны, действительно моя основная работа меня как-то совсем не увлекла. Я как-то не чувствовал, что моя работа действительно кому-то нужна и является частью какого-то большого и интересного проекта. Отчасти это было следствием большой секретности всех тогдашних проектов, а другой причиной (скорее главной) было то, что я был слишком маленьким «винтиком» в громадной «машине» производства, чтобы меня посвящали в суть проекта, из чего я мог бы понять роль и место моей работы во всём проекте. А мне всегда и непременно нужно было видеть результат моего труда. Конечно, я выполнял свою главную работу, но, скажу прямо, по тому минимуму, который был необходим, но не более.
С другой стороны, общественная работа в СССР всегда была в большом почёте и считалось вполне нормальным делать её во время рабочего дня. Она поддерживалась всеми общественными организациями, которые присутствовали на всех предприятиях – парткомом, профкомом, комитетом комсомола и пр. И чтобы окончательно убедить молодого читателя в том, что это было в порядке вещей, скажу, что известно много примеров, когда женщины даже и с дипломом инженера сидя на рабочем месте целыми днями занимались вязанием шерстяных носков. Стоит ли теперь удивляться, что никто не противодействовал моей активной общественной работе, благодаря которой я отсутствовал на рабочем месте иногда часами. Но, мягко говоря, и не очень этому радовались. Ещё имел значение тот факт, что, как я упоминал выше, моей начальницей была Нэдда Харикова, молодая женщина, всего на пару лет старше меня, и была она «безотказной рабочей лошадкой», которая предпочитала делать половину работы за своих подчинённых, которых у неё было пять, вместо того чтобы заставлять или уговаривать их работать.
Итак, теперь мне предстояло быть главным инженером мною же придуманного проекта. Прежде всего я появился в конструкторском бюро, где работал ведущим инженером один из наших слаломистов. Естественно, с ним была договорённость заранее, что он возглавит конструкторскую часть проекта и теперь, когда я принёс ему бумагу для его начальника с резолюцией директора, вопрос, можно сказать, был решён. Он сам принёс эту бумагу своему начальнику и с этого момента он имел возможность не только сам работать над проектом, но также привлекать и своих подчинённых. Теперь у всех конструкторов, которые были вовлечены в наш проект, он стал приоритетным, естественно неофициально, зато реально – все хорошо понимали, в каком полезном деле они принимают участие. Таким образом, работая стахановским методом (Стаханов – это шахтёр, который в 1935 году в СССР якобы один за свою рабочую смену выполнил норму четырнадцати человек), самая главная, конструкторская часть, была завершена ровно за один месяц – мне показали ни много, ни мало, а сорок листов формата «А1» с готовыми чертежами. Теперь мне было что предъявить всем членам слаломной секции и, конечно, это поменяло отношение к моей затее ровно на 1800. Теперь все без исключения поверили в то, что не только сама затея реальна, но думаю, что с этого момента уже почти никто не сомневался, что она будет завершена к ближайшему зимнему сезону.
Дальнейшая работа была лишь делом простой техники – распределить куски и кусочки остальной части проекта между членами слаломной секции согласно их профессиям. Таких членов вначале было человек пятнадцать, но по мере того, как слух о нашем первоначальном успехе распространился по предприятию, энтузиастов становилось всё больше. Кроме того, теперь слаломисты-энтузиасты стали приводить своих друзей, которые не работали в «Электроприборе». Кто же откажется в зимний сезон от катания на лыжах с подъёмником? Конечно, такие люди могли работать только в Кавголово, но и там тяжёлой физической работы было предостаточно. Теперь всем членам секции было вменено в обязанность работать в выходные, занимаясь физическим трудом в Кавголово. И никто не пытался прогуливать. Только я был освобождён от этой трудовой повинности, поскольку мои обязанности я совершал как раз в рабочее время на заводе.
Теперь, когда всё закрутилось, я занимался координацией всех частей проекта. Ведь я же был его неофициальным главным инженером и, очевидно, что за всё отвечал я и, в первую очередь, за проблемы, которые могут возникнуть как, по-моему, так и по чьему-то другому недосмотру. Вот тогда я впервые почувствовал, что такое ответственность за дело, результаты которого ждут и на которые надеется большое количество людей. А по ночам я никак не мог заснуть, прокручивая в голове разные ситуации и возможные мои упущения или нестыковки разных частей проекта. Мне казалось, что я всё предусмотрел, но нельзя забывать, что весь проект с самого начала делался, что называется, «на коленке». Один такой случай мне хорошо запомнился. Я внезапно проснулся посреди ночи от страшной мысли во сне: мы решили делать железную будку размером 3х3х3 м3. А как мы доставим её в Кавголово? Есть ли такой грузовик у «Электроприбора», в котором он может поместиться? Что он не поместится в обычный грузовик это мне было ясно и раньше. Мне следовало выяснить этот вопрос до начала проектирования и если нет такого грузовика, то надо срочно переделывать будку, а она уже в производстве! И что подумают обо мне товарищи, когда узнают о такой моей оплошности? Остаток ночи я уже не спал, а утром вскочил и помчался в институт на час раньше обычного, чтобы узнать, есть ли в гараже нашего завода нужный мне грузовик? К моему счастью, в гараже оказался один КРАЗ – это самый большой из всех тогдашних советских грузовиков. Я немедленно измерил ширину его кузова и, о счастье, она оказалась 3 м и 5 см! Вот таким образом я был спасён!
Через три месяца всё было готово, как в Кавголово, так и в «Электроприборе». Грузчики с помощью автокрана погрузили будку в кузов КРАЗа (она едва поместилась), в будку забросали все детали подъёмника и в сопровождении другого грузовика – подъёмного крана – мы отправились в Кавголово. Поскольку я наблюдал за погрузкой – как бы чего не случилось – а затем поехал сопровождать своё детище на место его постоянной дислокации, то сумел сделать доброе дело для своего самого «любимого» брата. Он в это время учился уже на 4-м курсе и не раз намекал мне, что он был бы не против, если бы я обеспечил его настоящим ватманом – это толстая чертёжная бумага, которая вообще не продавалась в магазинах и была привилегией только серьёзных конструкторских бюро. Такая бумага экономит много времени как раз потому, что она слоёная и в случае ошибок её верхний слой легко срезается с помощью лезвия от безопасной бритвы. Напомню, что в то время все чертежи выполнялись сначала карандашом, а затем обводились тушью. Естественно, что просто так вынести что-либо из очень секретного «Электроприбора», тем более габаритный рулон чертёжной бумаги, не представлялось возможным. А тут я сопровождаю целую будку размером 3х3х3 м3 и туда можно подложить хоть целого слона! Короче, зашёл я в КБ к своему приятелю, который «служил» у меня главным конструктором и попросил у него десятка два листов ватмана. Он, конечно, мне не отказал (помните заповедь страны советов: всё добро принадлежит народу и только надо найти способ забрать свою долю), я забросил этот рулон в будку и, таким образом, 20 листов ватмана выехали за ворота фирмы, а на следующий день оказались в руках счастливого Аркадия. С уверенностью могу сказать, что кроме него ни один студент ЛИТМО, как, впрочем, и любого другого университета, такого сокровища не имел.
Вот так завершился мой самый успешный и значительный проект за всю мою трудовую деятельность в СССР. Это, конечно, моя личная оценка. Кто-то может со мной не согласиться.
Первый спортивный сбор в а/л «Безенги», июль 1964 года
Лагерь «Безенги» в то время был и остаётся по сей день самым спортивным лагерем среди всех альп. лагерей СССР. Эту репутацию он заслужил благодаря следующим его характеристикам: во-первых, он в Центральном Кавказе, где находятся пять из семи кавказских пяти тысячников (вершины выше 5,000 м), которые расположены на территории бывшей СССР и настоящей России и образуют знаменитую Безенгийскую стену, которая, в свою очередь, является естественной границей между Россией и Грузией; во-вторых, он считается районом с наиболее суровыми погодными условиями; и, наконец, в-третьих, как следствие этих двух характеристик, в то время туда принимали спортсменов не ниже 2-го разряда, т. е. уже вполне зрелых альпинистов. Излишне говорить, что это был единственный лагерь, в котором все смены были продолжительностью 30 дней и все путёвки в него для нас были бесплатными. Кстати сказать, туда не ходили грузовики ввиду отсутствия дороги и участникам приходилось последние 20 км до лагеря добираться пешком с полными рюкзаками. Последний факт определённо добавлял экзотики этому лагерю.
Теперь должно быть понятно, какой был конкурс на зачисление в такой сбор, если число его участников было ограничено всего тридцатью пятью, включая команду из десяти мастеров спорта, заявленную на участие в чемпионате СССР в классе технических восхождений. Конечно, уже за полгода до выезда начинались изнурительные тренировки, которые проводились два раза в неделю серьёзными мастерами, такими, как м. с., д.ф.-м.н. Алик Рыскин и известный изобретатель спасательного снаряжения м. с. Б. Л. Кашевник. Также обязательно было участие во всех соревнованиях ДСО «Труд» – лыжный 10 км кросс и слалом зимой в Кавголово, а в мае скалолазание на озере Ястребиное. Совершенно очевидно, что необходимо было показать хорошее зачётное время во всех трёх дисциплинах. На этот раз я почти не сомневался, что пройду все барьеры и попаду на сбор. Отчасти, такая уверенность была от того, что Васи Савина среди тренеров сбора, слава богу, не было, а отчасти от того, что уверенность в себе уже появилась в моём характере. Вот что уже сделал со мной альпинизм!
Итак, я впервые в а/л «Безенги», в котором впоследствии буду бывать ещё много раз, в том числе в качестве тренера спустя 43 года (!) после этого. Начальником сбора был Дмитрий Евгеньевич Хейсин, человек незаурядный во всех отношениях, и я благодарен судьбе, которая свела меня с ним на многие годы вперёд. Я говорю это даже несмотря на то, что я лично в компании ещё семи человек пострадал от его несправедливого решения на таком же сборе следующего года. Но об этом я расскажу позже. А сейчас я хочу привести здесь отрывок из статьи моего многолетнего друга Игоря Виноградского под названием «Счастливчик Митя Хейсин (1932–1990)», потому что знаю, что лучше Игоря, профессионального писателя, я всё равно сделать это не смогу:



