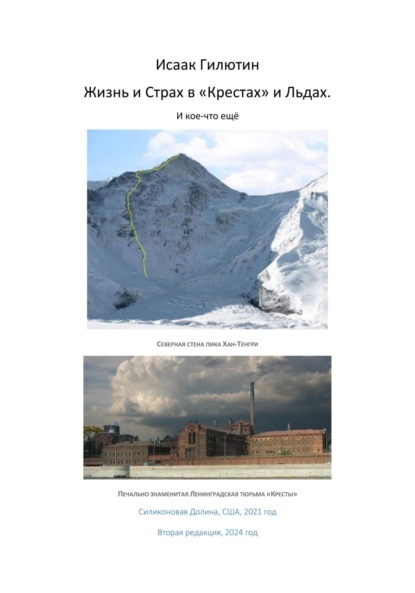
Полная версия:
Жизнь и страх в «Крестах» и льдах. И кое-что ещё
Только теперь родители озвучили мне будущее молодожёнов: они подыскали им жильё у дальних родственников на Васильевском острове – одну непроходную комнату в двухкомнатной кооперативной квартире. Очевидно, тот, кто сдавал эту комнату, нуждался в деньгах. Я не знаю, но думаю, что платить за эту комнату предложили родители Миши, которые, конечно, хотели, чтобы все их дети после окончания учёбы остались в Ленинграде, а в их планах было со временем и самим перебраться к детям. Очень скоро планам этим суждено было осуществиться. Как я понимаю, материально всё это для них было совсем несложно, т. к. Мишин отец служил подполковником по строевой подготовке в военной части, расквартированной в том самом г. Барановичи, а его мама вообще никогда не работала. Таким образом, Нэля вполне благополучно отъехала из нашей комнаты, стало немного свободнее – я опять получил постоянное спальное место вместо раскладушки, поскольку должен был вернуть Аркадию диван по его возвращению в нашу семью двумя годами раньше.
Жаркое лето 1962 года
В мой первый в жизни рабочий день 1 апреля, как только я появился на своей работе, меня вызвал заместитель начальника моего вычислительного отдела и извиняющимся голосом сообщил, что мне надо ехать в месячную командировку на Ладожское озеро, где наш институт оказывается, имеет испытательную базу. Никаких дополнительных разъяснений не последовало. Поскольку я уже понимал, что работаю в секретном учреждении, я тоже не стал задавать никаких вопросов, понимая, что на испытательной базе такого института вполне может оказаться интересная работа для молодого инженера. Каково же было моё разочарование, когда, по прибытии на базу, местный её начальник объяснил мне, что я прислан (внимание!) для заготовки дров, т. е. пилить, колоть и складывать дрова в штабеля, готовя их к зиме. Вы можете себе представить испытательную базу такого серьёзного института, в которой отсутствует центральное отопление, а все помещения отапливаются круглый год дровами. Я, конечно, сильно приуныл, но деваться некуда – мы все обязаны отработать три года по месту распределения. Таким образом, за месяц я приобрёл три новых и очень полезных для дипломированного инженера специальности – пильщика дров, кольщика дров и их складывателя в штабеля. Во всех отношениях этот месяц был полностью выброшен из жизни – там не было ни радио, ни библиотеки, а сам я книг с собой не прихватил, поскольку никто меня не предупредил, куда я еду и что меня там ожидает.
Начало июня ознаменовалось событием, которое долгие двадцать пять лет власти успешно скрывали от народа. В позорную историю СССР оно вошло под названием «Новочеркасский расстрел или Восстание обречённых». А произошло вот что:
В мае 1962 года правительство вынуждено было объявить о повышении розничных цен на мясо и мясные продукты в среднем на 30% и на масло – на 25%. Подобное решение вызвало резкое недовольство в рабочей среде. Как это всегда бывает в таких случаях, сошлись сразу несколько факторов. Новочеркасский Электровозостроительный завод (НЭВЗ), ставший эпицентром событий, был предприятием с очень большим коллективом (в лучшие годы – до 15 тысяч человек), часть которого составляли неместные, которые приезжали на заработки. Они вместе с семьями жили либо в неблагоустроенных бараках, либо в съёмных квартирах, за которые приходилось отдавать большую часть заработка. Для этих людей повышение цен на продукты было сильнейшим ударом по бюджету. К этому прибавилось и то, что фактически вместе с повышением цен на НЭВЗ повысили нормы выработки. Это означало снижение заработной платы.
Озлобленный народ вышел протестовать на улицу. Выступление было жестоко подавлено силами армии и КГБ СССР, а вся информация о Новочеркасских событиях, в том числе о количестве жертв и раненых, была строго засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, ещё 87 человек получили ранения. Семерым из «зачинщиков» забастовки были вынесены смертные приговоры, и они были расстреляны, 105 получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Сам город был блокирован войсками, въезд и выезд из него был запрещён за редким исключением. Я упоминаю здесь об этом событии потому, что узнал о нём уже через три недели после случившегося, т. к. Таня Забегалова в эти самые дни была в Новочеркасске в командировке (может быть, даже на самом НЭВЗ) и прежде, чем её выпустили оттуда, с неё взяли подписку о неразглашении. Она то и поведала мне об этой трагедии, которая разворачивалась, можно сказать, прямо на её глазах. Даже и я вскоре забыл об этом событии поскольку о нём вообще нигде не говорилось и не писалось в прессе. Сегодня, конечно, табу на эту позорную тему не существует и в You Tube есть много документальных видео. Вот одно из них, на мой взгляд, наиболее полное:
https://www.youtube.com/watch?v=6SdfmA-p6NE
Однако жизнь шла своим чередом. В июле я опять побывал в горах Кавказа, на этот раз в а/л «Домбай», который, как можно догадаться из его названия, находился прямо на знаменитой Домбайской поляне. Путёвку в него я получил в ДСО «Труд», к которому относился мой институт. Я довольно удачно провёл там свою 20-дневную смену: сходил на две вершины 3А к. т. и, кроме того, сделал два руководства – на 2А и 3А. Последней горой оказалась самая красивая вершина района под названием Зуб Софруджу, а траверс самой Софруджу я сделал годом раньше. Эти четыре вершины значительно приблизили меня ко второму спортивному разряду. На этом мои простые, 20-дневные смены в лагерях, закончились. Со следующего года и на целых 12 лет начнутся всевозможные спортивные сборы, либо, что ещё интереснее, спортивные экспедиции в значительно менее доступные горные районы Советского Союза.
Я уже подозреваю вопрос, который должен возникнуть у читателя моего возраста: а как это возможно – я только в апреле, начав работать на фирме, уже через три месяца уехал в новый отпуск? Такой читатель хорошо помнит, что в то время получить отпуск летом для молодого специалиста было практически невозможно. Для молодого читателя необходимо внести разъяснение: в СССР на всех фирмах отпуска всех рабочих и служащих распределялись равномерно по всему календарному году. А любой знает, что в Питере, Москве, да и почти во всём СССР время хорошей погоды длится всего три месяца – июнь, июль и август. Эти же месяцы являются и временем школьных и университетских каникул. Естественно, что отпуск летом в первую очередь давали родителям с детьми, а молодым и бездетным во все остальные месяцы.
Чтобы ответить на этот вопрос надо ещё раз вспомнить, что начиная с конца войны к альпинизму у советской власти было особое отношение, т. к. он не без основания считался военно-прикладным видом спорта. Поэтому, в добавление к 70% оплате всех альпинистских путёвок государством, правительством ещё был издан указ об обязательном предоставлении отпуска длительностью до 3-х месяцев без содержания для инструкторов альпинизма всех категорий на время работы лагерей, т. е. летом. Зная об этом указе, директора предприятий, как правило, получая список на 10–15 альпинистов для предоставления летнего отпуска, не заморачивались вопросом, кто в этом списке инструктор, а кто просто спортсмен, и подписывали весь список скопом. Я, естественно, стал членом альп. секции «Электроприбор» в первые же дни моего зачисления в штат института, не покидая при этом такой же секции при ЛИТМО, где я продолжал тренироваться.
Конец лета ознаменовался ещё одним трагическим событием, на этот раз только для меня и моих друзей. Я уже упоминал, что за последние два года на почве любви к горам и скалам у нас сложилась дружная компания – Лариса Новикова (впоследствии Чуфарина), Света Кузнецова, Лариса Кочкина (впоследствии Еськова), Толя Кайданов, Саша Дриккер и я, а «цементом» всей компании была Таня Забегалова. В этот год Таня решила изменить свою многолетнюю практику и вместо альпинистского лагеря поехать в туристский поход по Алтаю. Кажется, на то у неё были причины из личной жизни. Такая «измена» альпинизму стоила Тане жизни: ирония судьбы состояла в том, что она была из нас самой опытной, догадываюсь, что и среди участников того похода тоже, спортсменкой (уже пять успешных лет при альпинизме!), а погибла при переправе через горную реку – это, хотя сам по себе и опасный манёвр, но для альпинистки Таниного уровня далеко не самый опасный в её жизни. В общем, по слухам до меня дошедших, горный поток сбил её с ног и унёс вниз по течению на глазах остальных участников. Совершенно очевидно, что никакой страховки при этом не осуществлялось, что и привело к трагедии.
Это была моя первая, но далеко не последняя потеря среди близких альпинистских друзей. Можно сказать, что Таня в этом трагическом ряду была не только первая, но также и самая близкая – как бы там ни было, а мы проучились на одном курсе и факультете почти шесть лет. Кроме того, поскольку Таня была «цементом и совестью» нашего коллектива, её уход от нас несомненно отразился на всех членах коллектива. К ней по праву можно применить пословицу «хорошие люди долго не живут».
Трудовые будни в «Электроприборе», 1963–68 гг.
Первые спортивные сборы и первый же погибший друг
В 1963 году в ДСО «Труд» объявлены 30-дневные спортивные сборы, которые будут проводиться в а/л «Красная звезда» в августе. Этот лагерь находится на той же Домбайской поляне, на которой я был в а/л «Домбай» годом раньше. Естественно, что желающих попасть в него много больше, чем тридцать вакантных мест. Начиная с февраля два раза в неделю проводятся тренировки, которые и должны всё расставить по своим местам. Я, как и раньше, не надеюсь на удачу, но на тренировках выкладываюсь по полной, так, что, возвращаясь домой, еле «волочу» ноги. Помимо обычных тренировок, зимой необходимо было поучаствовать в 10-километровой лыжной гонке в Кавголово, где я совершенно неожиданно для себя выполнил 2-й разряд, пробежав дистанцию за меньше, чем 42 минуты. Надеюсь, что читатель помнит, как семью годами раньше, когда я был на первом курсе института, я не сумел выполнить даже норматив ГТО. На этот раз я оказался вполне готовым и к труду, и к обороне СССР. Вот во что уже превратил меня альпинизм! Разница между тем, что было, и тем, что стало, поразительная, и всего то за неполных три года. И это только физическая сторона процесса. Но, несомненно, есть ведь и психологическая его сторона, которая, на мой взгляд, даже важнее – ведь ещё совсем недавно я не мог и подумать о том, что могу наравне со всеми попасть в а/л и получить значок Альпинист СССР, затем не мог даже мечтать о 3-м разряде, а теперь я нахожусь всего «на расстоянии вытянутой руки» от 2-го разряда! И если физическая подготовка, несомненно, важна для спорта и просто для физиологического ощущения своего тела, то психологические изменения человека распространяются на все абсолютно сферы его деятельности. Такой показательный случай произойдёт со мной всего через пару лет, о чём я, конечно, поведаю читателю в соответствии с хронологией событий.
А в тот год я без проблем был зачислен на этот сбор, причём, мало того, что его продолжительность вместо 20 дней обычной лагерной смены была 30 дней, так ещё и путёвка была полностью бесплатной. А продолжительность сбора в 30 дней это всё равно что две 20-дневные смены за два летних сезона из-за специфики альпинизма как спорта: когда «равнинный» человек приезжает один раз в году в горы, то ему необходимо акклиматизироваться к высокогорью прежде, чем он пойдёт на высоту четырёх и более тысяч метров. Потому и учебное расписание составлено так, что, как правило, первые 10 дней уходят на получение и подгонку снаряжения, 2-3 дня скальных занятий, 2-3 дня ледовых занятий, день отдыха и день подготовки к выходу в высокогорную зону, 2-3 дня для тренировочного восхождения (в современной терминологии это «открывашка») и только затем наступает время для спортивных восхождений во время оставшихся 10 дней. Таким образом, больше 2–3 спортивных восхождений совершить, как правило, не удаётся. А если не повезёт, то приходиться терять ещё 1-2-3 дня, пережидая непогоду либо в самом лагере, либо, того хуже, уже на горе. В эти первые дни в лагере проводятся ещё и теоретические занятия, как-то: альп. снаряжение, погода и опасности в горах, анализ несчастных случаев, первая медицинская помощь в условиях гор и т. д. Считается, что спортсменам начиная со 2-го разряда, теоретические занятия необязательны, они получают их самостоятельно в течение года, а вот менее опытным спортсменам эти занятия проходить необходимо в каждый новый приезд в горы. Теперь, надеюсь, понятно, почему такая высокая конкуренция за попадание на такие сборы.
Итак, в конце июля мы прибыли в а/л «Красная звезда» и обнаружили, что там объявлен 3-дневный траур – это мы сразу поняли по спущенному флагу лагеря. Оказалось, что 16 июля, за несколько дней до нашего появления, район этот прилично тряхануло подземным толчком и одну команду из Москвы под руководством известного м. с. Бориса Романова, находившуюся на ночёвке под самой вершиной, сильно побило камнепадом, которого в обычное время (если бы не землетрясение) там быть не могло. Пострадали все, но одному, молодому учёному и перворазряднику Юре Кулиничу из Москвы, досталось больше всех – удар камнем пришёлся ему на грудь и он ещё двое суток был жив, но ко времени прибытия спасательного отряда умер, несмотря на то, что сам Романов был доктором, к.м.н. Произошло это на серьёзном восхождении – Восточный Домбай –Ульген по 5Б к. т. и потому так много времени заняло для подхода спасательного отряда. Для нас, ещё довольно молодых и ещё «не обкатанных» альпинистов, было серьёзным шоком видеть притихший в трауре лагерь. Можно сказать, что для всех нас это было «первой ласточкой» от нашей будущей профессии. Потом, для тех, кто в этой профессии всё-таки останется, таких случаев будет много. В этой книге я упомяну только тех, которые были мне не просто знакомы, но лично близки, или же я сам принимал участие в спасательных или транспортировочных работах.
Однако, в отличии от нас, наши тренеры были много повидавшими спортсменами, которые принимали это событие как неизбежные издержки данной профессии. Поскольку к спасательным работам мы уже всё равно опоздали и наша помощь уже не нужна, мы сразу приступили к выполнению наших учебно-спортивных планов. Одновременно это было хорошим способом отвлечься от гнетущей атмосферы только что случившейся трагедии, которая всё ещё присутствовала вокруг нас – в лагере ожидали приезда родителей погибшего, а также судебно-медицинского эксперта и следователя, которые должны были подтвердить, что смерть наступила ненасильственным путём. Сразу скажу, что сбор этот для меня лично был вполне успешным и я, сделав пять гор (две 2Б, две 3Б и одну 4А), выполнил тем самым 2-й разряд, что как раз и было моей целью. Тем не менее, хочу поведать читателю о трёх эпизодах, непосредственно связанных со мной, которые, на мой взгляд, могут оказаться поучительными для других.
Те самые неизбежные издержки профессии, о которых я только что упомянул, не заставили себя долго ждать – очередная трагедия произошла буквально через три недели прямо на нашем сборе, больше того, с моим другом. Расскажу всё по порядку.
Ещё во время тренировок в Ленинграде я познакомился с Сашей Балашовым, очень приятным парнем, моим одногодком, как и я имевшим 3-й разряд с превышением. В лагере мы даже поселились в одной палатке и собирались ходить в одной связке все восхождения. Саша очень быстро признался мне, что пишет стихи и я заинтересовался. Дело в том, что, хотя сам я никогда даже не пытался писать стихи, но в то время очень увлекался современной поэзией, которая в те годы была довольно модным увлечением среди молодёжи. Он дал мне почитать свои стихи, и они мне настолько понравились, что я попросил разрешение их переписать. Мне кажется, что я их где-то недавно (55 лет спустя!) видел среди своих бумаг. У нас с Сашей оказалось так много общего (и альпинизм, и поэзия, и взгляды на жизнь), что у меня появилась уверенность в том, что по возвращении в Ленинград мы станем настоящими друзьями на много лет вперёд. Ничто не предвещало беды всю первую неделю, пока мы ходили на скальные и ледовые занятия. Но накануне выхода на тренировочное восхождение (Малый Домбай по 2Б) Саша почувствовал себя простуженным, что и обнаружил лагерный врач и совершенно естественно не допустил его до восхождения. Когда через три дня весь наш сбор вернулся в лагерь, Саша выздоровел, но теперь, согласно строгим правилам альпинизма, он не может присоединиться к нам на следующее, более трудное, восхождение, поскольку не прошёл с нами более лёгкое, тренировочное. Таким образом, он выбывает из состава сбора и, чтобы ему совсем не потерять сезон, его передают в состав лагеря, который работает по стандартному 20-дневному плану.
Начиная с этого дня мы с Сашей практически не видимся, хотя в лагере проживаем в одной палатке. Просто мои и его выходы на вершины не совпадают. И вот наступает злополучный день, 21 августа, когда произошла новая трагедия. Я не знаю, было это для него первое или уже второе восхождение, но сути дела это ничего не меняет. По иронии судьбы он попал в отделение к хорошо мне знакомому сильному м. с. и инструктору Людмиле Андреевне Самодуровой, о которой я уже упоминал в качестве своего первого инструктора. В тот день их отряд, состоящий из пяти отделений (каждое отделение состоит из 5 человек плюс инструктор) и командира отряда поднимался на самую красивую вершину района Зуб Софруджу по 2А к. т. Там есть длиннющий, на несколько часов ходу, снежный склон, настолько некрутой (30-35o), что сами инструктора шли рядом со своими отделениями непривязанные, в то время как участники, конечно, шли в связках. Сашу пристегнули третьим к связке двух ребят из Москвы, девочке Нессоновой Н. Б. и мальчику Злобину Н. В. Могу предположить, что Саше достались не самые сильные и дисциплинированные участники. Порядок их расположения в связке был такой: первый мальчик, вторая девочка и третий Саша. Когда идёт такой большой отряд ещё молодых альпинистов, они останавливаются каждые 50 минут для отдыха на 10 минут. Как правило, на таком отдыхе участники снимают с себя рюкзаки и располагают их перед своими ногами выше по склону, чтобы они не смогли укатиться вниз. Что же касается ледоруба, то, строго говоря, его не положено снимать с темляка, но часто этим правилом участники (особенно незрелые) пренебрегают.
На очередном таком отдыхе девочка, поставив рюкзак перед собой, достаёт расчёску и решает привести в порядок свои растрёпанные волосы. Опять предполагаю, что кольца верёвки она тоже положила на рюкзак, что также не позволяется правилами. Время дня было довольно раннее и, значит, снег был ещё жёсткий и довольно скользкий. А дальше всё происходит почти мгновенно: девочка теряет равновесие и, упав на склон, начинает бесконтрольно скользить по склону вниз и очень быстро срывает своего верхнего напарника. По рассказам очевидцев знаю, что ни девочка, ни мальчик, даже не пытаются использовать ледоруб для само задержания. Мне неизвестно, были ли у них в руках в это время ледорубы, но если были, то скорее всего эти ледорубы стали оружием против них самих, т. к. мало вероятно, что в процессе бесконтрольного падения они смогли схватить в полёте свои ледорубы и при том правильной хваткой. Тем временем, Саша, находясь ниже их обоих и уже видя этот безобразный полёт, успевает воткнуть свой ледоруб в снег и лечь на него грудью своего тела. Мне также неизвестно, успел ли он правильно заложить верёвку вокруг головки ледоруба, как того требует техника страховки. В любом случае кинетическая энергия двух падающих тел значительно больше , чем статическая энергия одного Саши. В результате, когда верёвка полностью натягивается и растягивается, становясь своеобразной пружиной, двое первых вырывают Сашу вместе с его ледорубом, он летит по воздуху метров десять и «шмякается» о склон. Скорее всего от такого удара он теряет сознание и более уже не сопротивляется. Всё это происходит на глазах целого отряда, включая шестерых инструкторов. Но уже поздно что-либо предпринять – догнать падающую связку уже не представляется возможным. А в самом низу, куда катится связка, находится большая открытая трещина. И вот два тела уже скрылись в трещине, а Сашино тело в последний раз ударилось головой о большой камень, лежащий на снегу перед трещиной, и . . . остановило дальнейшее падение всей связки, чем сильно облегчило спасательные и транспортировочные работы, иначе пришлось бы ещё доставать три трупа из глубокой трещины. А так два трупа вытащили за верёвку, которой они были связаны с Сашей. На этом всё было кончено.
Уже через день в лагерь прилетел уполномоченный федерации альпинизма СССР и создана комиссия из старших инструкторов для разбора очередного несчастного случая. Им всегда необходимо установить причины трагедии и кто виноват. Довольно часто в таких случаях наказывают инструктора отделения, у которого могут изъять инструкторское удостоверение. К счастью, в данном случае этого не произошло: муж Людмилы Андреевны, м. с. Артём Варжапетян, просто забрал её и увёз в Ленинград ещё во время работы комиссии. А ещё через пару дней тела погибших были доставлены соответственно в Москву и Ленинград.
Какие выводы можно сделать из этой трагедии?
Во-первых, никто, конечно, не застрахован от того, что не заболеет в горах, но, чем лучше ты подготовил своё тело в течение всего предшествующего года, тем ниже вероятность того, что это с тобой случится. Сюда, конечно, в первую очередь, входят регулярные круглогодичные тренировки, и чем изнурительнее, тем лучше. Об этом очень хорошо высказался знаменитый русский полководец А. В. Суворов: тяжело в учении – легко в бою. Но нельзя забывать и про сдачу основных анализов и их обсуждение со своим врачом, непременное посещение зубного врача и т. д. до отъезда в горы. Недаром, без справки от врача в то время в лагерь не принимали, но как часто мы относились к этой справке как к ненужной формальности! А начиная со 2-го разряда мы были обязаны перед выездом в горы получать такую справку в городском физкультурном диспансере, где уже имели дело с врачами, знакомыми со спецификой каждого вида спорта.
Во-вторых, все серьёзные альпинисты хорошо знают о том, что нельзя идти на трудные восхождения с незнакомым человеком, будь он даже очень сильным физически спортсменом; сначала его необходимо «испытать» на более лёгком маршруте или хотя бы «съесть с ним пуд соли» на равнине. В альпинизме, как ни в каком другом виде спорта, помимо физического состояния человека, не менее важно его психологическое состояние и как он ведёт себя в стрессовых ситуациях. Недаром у альпинистов существует понятие «схоженности» в команде. Правда, в данном случае эта вторая причина трагедии от самого Саши никак не зависела – в том, ещё недостаточно зрелом альпинистском возрасте, в каком мы тогда пребывали, за нас такие вопросы – с кем и куда мы пойдём – решали наши инструктора. В то время рубежом самостоятельности в альпинизме считалась квалификация 2-го разряда, после получения которого спортсменам разрешались восхождения без инструктора. Чуть позже, повзрослев, отчасти постоянно обучаясь на анализе несчастных случаях в горах, один из которых я здесь и обсуждаю, к подобным вопросам мы подходили куда более серьёзно. И особенно остро этот вопрос стоит в отношении напарника по связке.
По возвращении в Ленинград я посчитал своим долгом посетить родителей Саши на правах его последнего друга, коим я сам себя считал. Конечно, эта очень тяжёлая повинность, но она же и внутренняя обязанность. Когда я позвонил в дверь его квартиры, мне открыла его мама. Со дня похорон прошло уже дней десять, но было видно, что её лицо не просыхало от слёз. Стараясь сдерживать себя, она расспрашивала меня о последних днях, в которые мне довелось общаться с Сашей. В качестве небольшого утешения для мамы я заметил, что у Саши был младший брат лет восьми. Прощаясь, она просила меня заходить ещё, и я действительно заходил ещё пару раз, ну а потом жизнь закрутила . . .
Два других эпизода произошли уже со мной лично. Первый из них хотя и не очень значительный и, к счастью, совсем не повлиял на мою карьеру, тем не менее я решил и его вставить сюда, поскольку он мне очень запомнился, а запоминается, как известно, скорее плохое, чем хорошее, по крайней мере так всегда происходит со мной. К тому же я в самом начале книги дал сам себе обязательство ничего не приукрашивать и даже «одну ложку дёгтя не выбрасывать из бочки мёда».
После двух успешных восхождений 2Б к. т. мне и ещё двоим сильным ребятам предстоят два восхождения 3Б к. т. под руководством инструктора и м. с. Васи Савина. Вася, хотя и был достаточно сильным физически, тем не менее очень выделялся среди инструкторов, да и вообще альпинистов, с которыми мне когда-либо пришлось столкнуться за свою 15-летнюю альпинистскую карьеру в СССР. По профессии Вася был слесарь-инструментальщик на заводе, на котором также работал хорошо известный и всеми уважаемый изобретатель альпинистского спасательного снаряжения и при том сильный м. с. Б. Л. Кашевник. Много лет спустя, когда я уже был хорошо и близко знаком с Борисом Лазаревичем, кто-то мне рассказал, что Вася как раз и был его протеже, что меня сильно удивило, поскольку сам он был очень интеллигентным и доброжелательным человеком, чего я никак не мог сказать про Васю. Вообще-то, пишу об этом эпизоде только потому, что это был единственный случай за всю мою альпинистскую карьеру, когда мне пришлось столкнулся с инструктором, который меня невзлюбил с самого начала и без всякой на то причины.



