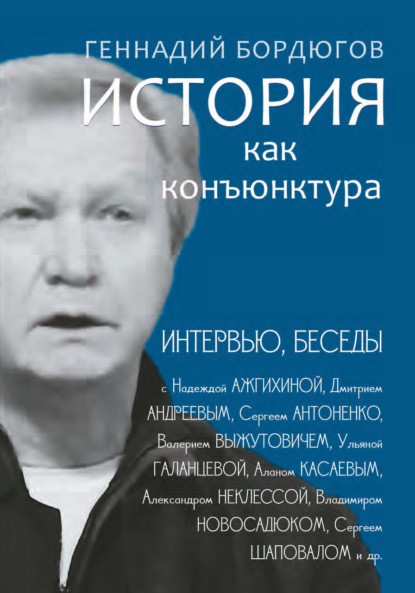
Полная версия:
История как конъюнктура
– Отмечается, но своеобразно. 8 мая прошло торжественное заседание партийно-государственной верхушки в Большом театре, на котором с докладом выступил маршал Иван Конев, не Жуков. Говорилось исключительно о военных аспектах войны и таким образом локализовывались память о Победе и сам праздник.
Д. З.: Реабилитация армии…
В. Д.: Десакрализация Сталина, хотя до XX съезда почти год.
– У Конева в речи только один раз прозвучит имя Сталина, да и только после подчеркивания заслуг действующих руководителей – Ворошилова, Кагановича, Булганина, ну и Хрущёва. Сталин был назван председателем ГКО и Верховным Главнокомандующим, но назначенным Центральным комитетом и Советским правительством.
Д. З.: Так почему же Хрущев все-таки не сделал праздник национальным, государственным?
В. Д.: Видимо, потому что трудно было отойти от Сталина?
– Да, Хрущёв уже готовился к XX съезду, готовился к обличительному докладу. Для перевода праздника в общегосударственный разряд требовалось объяснение роли и значения Сталина.
Д. З.: И куда делся Сталин?
– Его торопились «сбросить» в зону антипамяти.
Д. З.: Понятно. И не хотели после XX съезда. Почему?
– Потому что нужно было объяснять, почему мы выиграли войну. И если война выиграна, у этой войны есть народ-победитель, но есть и главнокомандующий. С ошибками, просчетами, но принимающим ключевые решения. Поэтому Сталин все же присутствовал в ауре юбилея – хотя бы даже в качестве фигуры умолчания.
В. Д.: А может Никите Сергеевичу нечего было предъявить о своей роли в годы войны?
– Как это не мог предъявить? Если вы возьмете шеститомную «Историю Великой Отечественной войны», которая была написана при Хрущеве, то вы можете обнаружить, что его имя там упоминается 126 раз, а опальный Жуков только 16.
В. Д.: А когда вышел шеститомник?
– Шестой заключительный том вышел как раз в 1965 году после смещения Хрущева. Поэтому в этом томе вы не найдете именного указателя, чтобы не возникло контраста.
В. Д.: То есть Хрущев создавал как бы свою «малую землю».
– Конечно, со ставкой на Сталинград, с выпячиванием своей собственной роли. Брежнев мог поучиться у него, как создавать миф о «великом полководце».
Д. З.: И по-прежнему продолжалась история ухода от истинных цифр потерь. Когда первый раз появилась цифра 20 миллионов? При Хрущеве?
– Да, но это количество людских потерь официально называлось с 1961 года только устно. Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати не давало разрешения на опубликование этих данных в 6-ом томе. Санкция была дана в 1965 году лишь после вмешательства ЦК.
Д. З.: До этого, насколько я помню, фигурировала цифра порядка 7 миллионов.
В. Д.: Это еще сталинские времена. А Брежнев выстраивает новый сценарий праздника Победы.
– Который выходит в пространство самой жизни. Объявляется 9 мая как выходной день, появляется памятная юбилейная медаль, посвященная Победе, выпускается новая рублёвая монета, проводятся массовые гуляния, возникают специальные ритуалы возложения цветов к солдатским могилам, проводится Парад Победы и объявляется Минута Молчания.
В. Д.: Тогда же родилась идея присвоения звания города-героя?
– Да, именно на двадцатилетие Победы утверждается почётное звание «города-героя» и произведены первые его присвоения Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю, Одессе, а также Брестской крепости.
В. Д.: Вообще-то, немного странная по сути своей награда – награждать город. Кого или что награждали? Администрацию города, население города? Но одновременно возникает фигура Сталина.
– Когда мы говорим о пространстве памяти, очень важно видеть, как актуализируется прошлое, кто стоит за прожектором и направляет свет в ту или иную сторону. Так создается проект памяти. Однако здесь появляются свои ловушки, потому что когда вы начинаете высвечивать нужные вам фигуры, они находятся в определенном окружении, конкурирует с другими идеями, тенденциями. Многое может не совпадать со сценарием вашего проекта, а главное, неудобным образом возвращаться к тому, кто управляет прожектором. Поэтому брежневская Малая земля вступает в конкуренцию с великими победами под Москвой, Сталинградом, Курском, чего в исторической действительности не было. Поэтому стоящий за прожектором и направляющий луч освещения может столкнуться с весьма неожиданной реакцией.
Д. З.: Ну да, он её и получил.
– Другой момент. При Брежневе, потом это повторится в 1995-98 годах при Ельцине, юбилею Победы стали придаваться черты помпезности, театрализации. Есть у памяти официальная, парадная сторона, но никуда не денется память подлинная, народная. Историки начинают уходить от освещения только хода военных операций и массовых сражений, обращаются к темам, которые раньше были втуне, либо под запретом – тяжести войны, предательство, измены, коллаборационизм, военные преступления.
В. Д.: Интересная деталь. 1985 год, казалось бы, перестройка, Горбачев – молодой, современный, желающий перемен политик. Он приходит к власти в марте, а затем накануне 9 мая в его докладе под продолжительные аплодисменты произносится имя Сталина.
– Для меня ничего в этом удивительного нет, потому что когда мы говорим о Победе, мы должны говорить и о верховном главнокомандующем, этого вы никуда не денете. К тому же, о Горбачеве пошла молва как о сильном политике, не побоявшемся после длительного замалчивания назвать имя Сталина.
Д. З.: Ну, не знаю, возьмите ту же самую Германию, где была проведена денацификация и духовную опору нация-то и не потеряла. Они, по-моему, прекрасно себя чувствуют без Гитлера.
– Но сначала они были побеждены, разгромлены, Третий рейх исчез с лица Земли. Проблема преодоления прошлого решена немцами гораздо серьезнее, чем у нас.
В. Д. Как-то на «Эхе Москвы» Герхард Шредер, еще будучи канцлером, давал интервью и когда слушатели начали задавать ему вопросы кто-то спросил его про национальную идею в Германии. Его всего перевернуло, перекорежило. Он сказал, что нет-нет, не надо нам ничего такого, с национальной идеей мы уже пожили.
– Поэтому нельзя допустить каталогизации 9 мая. Никто не должен и не имеет права присваивать этот праздник, приватизировать его. Праздник Победы – решающий фактор для конструктивного национального согласия, в котором нуждаются и власть, и общество. А память о Победе – это не только бронза и гранит, но простое, негромкое человеческое слово, сказанное о тех, кто сражался и погибал.
Образы будущей России: миражи и маски XX века

Беседа с ведущим FM Александром Неклессой[4]
– …Говорить мы сегодня будем об образах будущей России, о тех образах, которые возникали, конкурировали на протяжении XX века, потому что и Россия, и мир на протяжении всего XX века переживали какой-то грандиозный перелом, который, в общем-то, продолжается и даже приобретает ещё большую грандиозность. Если бы меня спросили, как охарактеризовать XX век, я бы сказал, что это век перманентного транзита от одной переломной стоянки к другой. И здесь возникает проблема: какие же всё-таки концепции развития оказывались конкурентоспособными, почему те концепции развития, которые обретали реальность, становились доминантными? А маски… Маски потому, что, ну вот, уж не знаю, это особенность, которая в России была ярко выражена. Всегда был персональный носитель той или иной концепции: Ленин, Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев. Все эти люди – не просто политические лидеры, они выражали какую-то новую ступень, новую грань, новый аспект в движении России. Как вы считаете, в Российской империи, которая потерпела крах прямо в начале XX века, существовала какая-то картина будущего, какой-то свой смысл развития, или его просто не было, и в силу этого крах и произошёл?
– Конечно, вы сами знаете, что на рубеже веков всегда возникают различные сценарии будущего. И, конечно, не явился исключением рубеж XIX–XX века, когда Россия развивалась стремительно – высокая социальная мобильность, миграция из деревни в города, половина населения – люди до 20 лет.
– В общем, то, что Ортега-и-Гассет называл «революцией масс». Возникала из аграрной страны страна новая, или по-другому скажем – страна городской культуры.
– И, конечно, модернизации экономики. Любопытно, в какие оболочки облекается этот объективный процесс, какой диалог или какая конкуренция за смыслы возникает между властью и интеллигенцией – куда идёт страна и как её вести? Власть, скорее, следует консерватизму, победоносцевской или рождённым при Александре III идеологическим концепциям.
– Может быть, из-за этого и произошёл крах страны? Потому что попытка удержания настоящего, она как бы всегда проблематична. Если мы немного расширим фокус, то действительно увидим, что эти процессы – революция масс, изменение аграрного общества, переход к индустриальной культуре – это было состояние не одной России. Буквально по всей планете происходил этот процесс. Мексику можем вспомнить, монархические государства Европы, ту же Германию. Нечто схожее переживали Турция, Япония, Китай. То есть это был процесс универсальный, он шёл по всей планете.
– Но опять-таки, улавливала вот эти новые токи власть? Скорее всего, нет. А параллельно бурно растут политические партии и движения, их насчитывалось свыше ста. И у всех своя программа, свое видение будущего. Социал-демократы верят в управление будущим, в рациональные и четкие чертежи развития. Конституционные демократы предлагают радикально изменить избирательное право, отменить имущественный ценз, ценз оседлости, отменить военные ограничения. А авторы сборника «Проблемы идеализма» (1902), наоборот, выступают против прагматизма и рационализма, выдвигают на первый план не технологические расклады, а моральные ограничения, воссоединение «правды-истины» и «правдой-справедливостью». Смута 1905–1907 годов продолжает ломать, казалось бы, незыблемые мировоззренческие установки, порождает сокрушительную критику и приговор интеллигенции в сборнике «Вехи» (1909).
– Тогда давайте сделаем следующий шаг и поговорим о проектах будущего на уровне 1917 года, прежде всего у большевиков. Ведь у Ленина и Троцкого были разные подходы к образу будущего.
– Но их объединял идеал будущего – коммунизм. Ленин подходит к революции с обоснованием государства-коммуны, где не будет ни армии, ни полиции. И только в период Гражданской войны наступает определенное отрезвление, связанное с удержанием власти.
– Мобилизационное управление.
– Которое потом станет частью их представления о будущем, вот в чём была опасность Гражданский войны. Из нее вырастала тоталитарная система управления, военный тоталитаризм. Если же говорить о Троцком, то в 1920 году он верил в трудовые армии, а еще в то, что в коммунизме родится сверхчеловек, т. е. можно будет человека перевести на другую стадию биологического и социального развития. Вспомним Маяковского, Татлина с его башней «III Интернационал», или Малевича, который писал, что отомрёт зелёный мир, и вместо этого будет железный мир.
– И «Чёрный квадрат» – часть композиции оперы «Гибель солнца», где чёрный квадрат как искусственное, но искусственное в смысле технологического построения, конкурировал с образом круглого жёлтого солнца естественного.
– А еще Чаянов и его знаменитое «Путешествие моего брата Алексея в утопический рай», в котором крестьянский мир – республика равных собственников. Но одновременно заявил о себе Михаил Булгаков, который в 1919-м году по поводу будущего написал малозаметную статью «Грядущие перспективы»: никакого будущего нет и не будет, потому что после страшной революции наступает момент расплаты и нужно расплатиться за то, что была совершена чудовищная катастрофа. Писатель смотрел на революцию как на акт, который прервал возможность двигаться к будущему. И теперь надо трудом и нравственным очищением искупить безумство. Но современники не увидят светлые дни созидания. Возможно, только дети или внуки. Вот какая перед нами сложная, многосоставная картина разных проектов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Иваново-ТВ. 2000, 21 сентября.
2
В 2023 г. признан иноагентом.
3
Эхо Москвы. Программа «Цена Победы». 2006, 1 мая.
4
Финам. FM. Программа «Будущее где-то рядом». 2009, 21 августа.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

