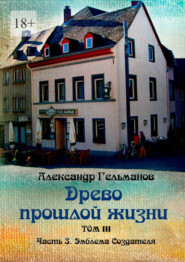
Полная версия:
Древо прошлой жизни. Том III. Часть 3. Эмблема Создателя
– Что ж теперь, и телевизор не смотреть? Вытравливать либидо благодатью?
– Наша Церковь правильно советует, чуть не сказал «оповещает население о гражданской обороне», – не включать телевизор, хотя бы во время Поста. Но имей в виду: никакому телеканалу никогда не позволят идти вразрез с политикой государства, а в России подавно. А политика – средняя результирующая проявления истинной сути политиков. Верующий, скорее, будет бороться с искушением осудить того шоумена с линейкой или чиновника, допустившего подобное шоу, чем с соблазном посмотреть его, и уж точно рейтинги шоуменов и чиновников не вырастают из приходских церквей.
– Хочешь сохранить стабильность общества – ничего не запрещай. У вас это начинают понимать.
– А не хочешь – всё разрешай, нет? Да вы уже всех достали своим прогрессирующим нудизмом, скоро школьные занятия по однополой камасутре введёте. Знаешь, почему во внутренней российской политике и в обществе возобладает единственная альтернатива – Закон Божий? Потому что Советский Союз был безбожным государством, в котором многое делалось из-под палки, свободу знали по песням Орловой, а доктрина америкосов о развале России вышла из-под пера дьявола, который обычно ни в чём себе не отказывает. У России просто нет иного выбора. А у нас до сих пор идут телешоу, какими милейшими стариканами слыли брежневы и андроповы в воспоминаниях современников. Любо-дорого посмотреть, они бы ещё колбаску по два двадцать с коммунальными платёжками в студию прихватили. Резонно ли превозносить социализм за великие стройки под руководством безбожников, если римские рабы на отдельно взятых континентах нагромоздили столько акведуков, пантеонов, колизеев и форумов? Согласись, возложение цветов и поклонение мавзолейному идолу, взрывавшему церкви, больше подходит дохристовой эпохе, чем XXI веку. А прошло двадцать веков!
– Не понимаю – какое отношение это имеет к сегодняшней России?
– Так ведь плюрализм в одной голове имеет точным диагнозом шизофрению. Здоровый пациент не сможет симулировать ностальгию по «легендарным» песенкам о стране, «где так вольно дышит человек», где так прикольно мутузят друг друга «Весёлые ребята», и тут же взгрустнуть над строкой Мандельштама ровно тех же лет: «Мы живём, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны». Или не так? Сей диагноз и есть национальное достояние.
– То есть ты хочешь, чтобы все опять начали изучать в школах Закон Божий и семьями по воскресеньям ходили в церковь?
– Ой-ой, как трогательно! Гимназистки румяные, колокольный звон и аромат пирожков пьяных лоточников в заломленных картузах с Хитрова рынка. Ах, да! Свистки небритых дворников в замызганных фартуках, с лихвой заменявших не одного дядю Стёпу, – ну чисто Гиляровский, правда, такие шляпки с вуалью и сюртуки давно не носят. Сначала Русская Православная Церковь должна набраться сил и мужества отойти от дремучего предания об окончательном вердикте Страшного Суда и вечном наказании и вернуться к Учению Христа о подлинном предназначении души. А уж кто куда и сколько будет ходить, прояснится потом, но думаю, наберётся подавляющее большинство, – вкусившему истину скучно цепляться за отжившие идеи. Стоит ли по малодушию или неведению препятствовать пророческому расцвету обновлённой России, если это дело ближайших столетий?
– Интересно, в чём разница между старой и будущей верой?
– В том, что независимо от веры или неверия во Второе Пришествие Судьи, человек всё равно исходит из того, что живёт один раз и после смерти шагнёт за черту, за которой от него уже ничего не будет зависеть, – ничегошеньки! А, исходя из того, что живёшь не один раз, уже нельзя игнорировать и не верить, что твоё будущее на Земле и на Другой Стороне зависит исключительно от тебя и твоих усилий в течении земных жизней и между ними. Исчезнет страх смерти – вечный предмет спекуляций, а человек станет жить дольше, – и это тоже откровения о будущем. При этом кармические невзгоды по мере продвижения души имеют тенденцию к ослаблению, никакого вечного возмездия нет. Пройдёшь все земные уроки – останешься на Другой Стороне насовсем, – работы хватит и там, не пройдёшь, – отошлют назад выбирать между Христом и Антихристом. За этим кроются абсолютно иное мироощущение, понимание нашей души и совершенно новые законы духовной жизни. С физической смертью, вопреки лжи, активная деятельность Духа не прекращается, и, значит, принципиально меняется парадигма индивидуального отношения к земной жизни. Даже тысячные доли энергии непобеждённого Духом греха не дадут разорвать цепь рождений и смертей, а при таком раскладе, абсолютно доминирующие поколения грешников безвылазно пополняли бы ВЕЧНУЮ ПРЕИСПОДНЮЮ с Начала Времён. Зачем?! И за что? Как в военное время, за пару минут земной слабости?
– Но… как это возможно – тысячные доли греха?
– Такова доступная измерению мера. «Проходной балл» вознесённого – зеро. И такова цена неустанной работы Духа в течение долгих лет в реальном аду, коим и является на самом деле наша Земля. А идею вечности ада и ограничения всепрощения порогом смерти выдумали для помыкания людьми и удовлетворения своих порочных страстей ещё в древности. Прикинь: реинкарнация предполагает, что душа дитяти может быть более продвинута, чем у родителя, – они должны учиться друг у друга, и таковы их задачи на совместное воплощение. Ещё одна правда – мы пересекаемся в жизни с другими душами ровно на тот срок, который необходим нам для выполнения обязательств, взятых ещё до рождения. Многие ли готовы принять такую правду? Другое дело, шоу, где на конкурс выставлен размер задницы, – вот это прикольно. В постижении главной Истины и есть залог невиданного скачка России. Ладно, проехали. Как говорит мой братец, это не для средних умов. И даже не для умов офисного планктона, который украсив темя шутовским колпаком на своих корпоративах, зовёт себя креативным классом. Наливай, чего завис как атеист над кладбищем после своих похорон? Выпьем за то, чтобы Человечество, наконец, перестало мочиться против ветра!
– Ну, краснобай, ну, баламут. Ты что сегодня – в ударе?
– Маленькая искорка безумия лучше, чем незамеченная хроническая ложь, а правда честнее и упрямее ложной твердокаменной догмы. Мне бы хотелось посмотреть в глаза тому, кто пытается доказать обратное. Потому что шельмовать истину берётся лишь тот, кто сознаёт преднамеренную изощрённость своих лжедоказательств. У светского и церковного менеджмента в миру общий способ защиты идеалов – уклонение от публичной постановки прямых вопросов и никаких «оговорок по Фрейду».
Мы опрокинули рюмки и закусили.
– Ладно, ладно, допустим так и есть. Но почему они лгут?
– А им в семинариях чего-то лень переписывать лекции и учебные программы. Не хотят брать пример с историков – незачем: над историками стоят короли, а над ними – шаром покати. Почувствуйте, так сказать, разницу. А если серьёзно, то сначала одни извратили и выхолостили христианство, «запретив перевоплощаться», а другие теперь призывают не верить в космический закон чуждых религий, поскольку это-де отрывает народ от его исконных корней. Но если действующий католический «запрет» на вмешательство Творца в дела человека относится к нашим духовным корням, тут больше не о чем говорить. Истина мракобесию обуза во все времена, в какую рясу или френч не ряди. Но Закон – есть! Есть заблуждения в представлениях о нём, и есть фанатичная заинтересованность в искажении фактов. Я сталкивался со многими людьми и вникал в неочевидную суть причин. Например, учение о вечном аде не привлекает колеблющихся, не сокращает количество равнодушных к вере и плодит скептиков-материалистов, однако способно подвигать часть молодёжи к иной религии, в которой, как ей кажется, «больше правды». Пророчества говорят, что процветание России произойдёт под знаменем обновлённого христианства. «Патриотичное решение» – во Христе: Он говорил на арамейском, жил на территории Израиля, но разделял «чужестранное» учение Будды и признавал естественное перевоплощение душ. Пойдёт ли Церковь на такого рода признания? Это позаковыристее дилеммы на картине Сурикова, креститься двумя перстами или тремя. Так-то, Марк. Найди в Интернете «Книгу Духов» Аллана Кардека и дочитай до точки. Это абсолютные истины, переданные непосредственно Другой Стороной. Всё остальное в жизни временно и относительно как наша наполовину полная бутылка. А на самом деле, она наполовину пуста, и пора бежать за второй. Где тут ближайший гастроном? Или вы переняли у нас супермаркеты?
– «Книга Духов», говоришь? Найду. Но сначала мне надо взять на работе отпуск, чтобы повозить тебя по замкам. Куда хочешь – по Райну или Мозелю?
– У меня к тебе одна просьба, Марк. Я хочу посмотреть на замок Эльзы и вернуться домой. Отпуск не бери, я осмотрю его один.
– Да хоть завтра, нет, лучше послезавтра. Всё равно мне нужно тебя отвезти, – до замка Эльзы сложно добираться.
– Спасибо, Марк. Только записку с координатами замка я где-то посеял.
А что? Музей – это хорошо. Чуть слышные шаги в гулкой тишине, робкий шёпот восхищения и скрюченная инсталляция хранительницы покоев с недовязанным чулком до пола и склерозом. Если сразу не попаду на экскурсию, переночую в каком-нибудь отеле и после осмотра вернусь в Дортмунд, – подумал я про себя, а в действительности рассказал Всевышнему о своих убогих планах. Только смешить меня и в этот раз Он не собирался. Потому что все персонажи многовековой драмы копошились под одним кармическим колпаком…
– Откуда происходят отличительные характеры, замечаемые у каждого народа?
«Духи образуют семейства – на основании сходства своих склонностей, более или менее чистых, смотря по их развитию. Таким образом, народ есть большое семейство, составившееся из воплотившихся симпатизирующих Духов. Стремление членов этих семейств к взаимному соединению есть причина сходства, составляющего отличительный характер каждого народа. Неужели ты думаешь, что добрые и человеколюбивые Духи будут желать воплощаться среди народа грубого и жестокого?»
Книга Духов
На третий день приезда наступило долгожданное утро. Я находился в неуправляемой эйфории и суетливо укладывал чистую одежду.
– Рюкзак-то тебе зачем? – спросил Марк.
– Часть привычки выходить из дома. Присядем на дорожку? По немецкому обычаю.
Мы уселись на пуфах.
– Ты только в подъезде от возбуждения не закричи – в шесть утра не прилично.
– А у нас не прилично спускаться за почтой в белых носках, – парировал я, вспомнив соседа Марка с нижнего этажа. – Нам далеко ехать?
– До Кобленца – часа три или меньше, а от него до твоего замка напрямую километров тридцать. Туда неудобно добираться, без машины – никак.
– Тогда в путь!
Мы спустились вниз и по холодку направились к «опелю». Я нёс в руках рюкзак и шляпу, приятель – сумку с бутербродами в пластиковых контейнерах и термосом. Он не догадывался, что в Дортмунд вернётся без меня. Чёрт!
Вскоре мы выехали из Хомбруха, района, где жил Марк, и оставили позади его южные окраины. И получаса не прошло, как за стеклом промелькнули указатели Хагена, первого города на пути в Кобленц. Мы неслись по автобану на скорости 220 километров в час, во всяком случае, так мне никогда ездить не приходилось. Скорость в машине не чувствовалась, но разбиться в лепёшку можно и на скорости километров в шестьдесят.
– Ты что, собрался запрашивать разрешение на взлёт? – взмолился я.
– Здесь все так ездят, – успокоил Марк.
– Ну да. Какой немец не любит быстрой езды? А вот докатится ли колесо до этого… Мистерфаундленда – вопрос.
– Мюнстермайфелда, – поправил Марк. – Докатится.
У меня складывалось впечатление, что территория страны – сплошные дороги, развязки, мосты и скоростные магистрали. Огромные скорости на автобанах – до 240 километров в час, и удалённость скоростных трасс от городов создавали картину географической безбрежности. Грузопоток в обоих направлениях был столь интенсивен, что какая-нибудь авария могла создать пробки на несколько часов. Радио в машине Марка постоянно передавало погоду и обстановку на дорогах.
– Как насчёт погоды?
– 20—22 градуса, ночью 11—13, без осадков. Нормальная погода начала сентября. Обещают ещё теплее. Пробок бы избежать.
Через два с лишним часа мы подъезжали к пригородам Кобленца.
– Город был римской колонией с VIII века до Рождества Христова, а позднее здесь располагалась западная резиденция германского ордена крестоносцев, – прокомментировал Марк.
– Чем славен ещё?
– «Немецким треугольником». Сейчас проедем по одному из мостов через Райн в основную часть города. В этом месте с Райном сливается Мозель и образуется острый угол, на котором стоит памятник кайзеру Вильгельму I на коне. 37 метров!
– Ого. Слушай, если Мозель течёт к городу с юга, куда течёт Райн?
– В Голландию. Главная река. Как Волга.
– Волга, Марк, течёт только в одной и по одной стране.
С моста через Райн открывался красивый вид: в месте соединения рек, на громадном постаменте, больше похожем на мавзолей, сидел всадник, обращённый к острию мыса. Раскинувшийся по берегам рек город дышал седым величием и опрятной стариной.
– Впечатляет, да?
– О да, – ответил я. – Тридцать семь метров бронзы. У нас на Дзержинского меньше ушло. Припоминаю, что во времена вашего императора Германией фактически управлял милитарист Бисмарк, который прославился декларацией о бесполезности войны с Россией. Потомки проигнорировали его через каких-то полтора десятка лет после смерти, причём дважды. А где памятник князю и первому рейхсканцлеру Бисмарку?
– Не знаю. Да ну тебя.
– До замка далеко?
– По Мозелю от места слияния рек – километров 35, хотя он крупно петляет – везде горы.
– Кобленц покидали по 49-му шоссе, но скоро пересекли Мозель и помчались на юг по шоссе 416 в сторону Лёфа. Вдоль левого берега, выше нас, пролегали железнодорожные пути, по которым тепловоз тащил пять вагонов красного цвета, навстречу ему так же бесшумно шёл товарный состав.
– Смотри, – указал на прибрежные дома впереди Марк, – это Виннинген, через пару километров проедем под самым высоким мостом в Европе.
Мост, действительно, отличался головокружительной высотой – сотни полторы метров над рекой, опирался на тонкие сваи и имел длину около километра. Он соединял пологий берег с распаханными полями и более крутой, покрытый виноградниками. Казалось, безупречную гладь Мозеля и тишину над водной ширью не нарушали, будто стоявшие на месте прогулочные суда и баржи. Иногда река делала очередной поворот, и тогда череда открывшихся взору пологих прибрежных гор уходила далеко за горизонт. Берега были очень живописны, различной высоты и пологости. Четырёхполосное шоссе вдоль левого берега отделял от реки каменный парапет, с другой стороны тянулись бесконечные городки с кафе, магазинами и легко различимыми остроконечными кирхами. Дома, как правило, были невысоки – в два-три этажа, преимущественно бурых, коричневых и белых цветов под тёмно-серыми черепицами. Они спускались к шоссе, а дальние постройки прятались на склонах в сочных тёмно-зелёных лесах и кустарниках, ещё не тронутых золотом осени; ещё выше лесистые склоны переходили в плоскогорья, где тянулись бесконечные сельскохозяйственные поля. И всё же цветовая гамма вокруг по сравнению с Францией была иной, особенно, это касалось строений, – они выглядели более строгими и менее яркими. По обеим сторонам реки на пологих склонах или ступенчатых террасах более крутых холмов там и сям зеленели выстроенные во фрунт, словно расчерченные, виноградники. Городки на Мозеле занимались виноделием. На краях гор или чуть дальше от береговой линии над рекой с обеих сторон высились громады замков, – таких величественных и древних сооружений, построенных в одном месте, мне не доводилось видеть ещё никогда. Иногда казалось, начинаются пригороды какого-то крупного населённого пункта, однако это были небольшие прибрежные городки. Они так и наползали друг на друга, что лишь увеличивало бесконечность простора.
– Это что за городок, Марк?
– Коберг.
На склоне холма, выше шоссе, я заметил железнодорожную станцию, к которой беззвучно подползала серебристая электричка. Мы продолжали ехать на юг вдоль левого берега. Через несколько минут я не вытерпел:
– Эй, водила, сколько ещё Мандорфов, Фрайдорфов и Бергдорфов осталось?
– А что?
– Жду, когда сотрётся грань между городом и деревней.
– Потерпи. Ещё парочка левендорфов, и мы у цели. Лучше посмотри налево, балабол. На том берегу, напротив нас, замок Турант, XII век. Мы могли бы в него зайти, если бы поехали правым берегом по 49-му шоссе. Три с полтиной за вход.
Впереди и слева за Мозелем в нескольких сотнях метров от берега, на невысоком холме стоял замок с двумя круглыми башнями из мрачного буро-коричневого камня.
– Там очень смешные туалеты. Обычные деревянные двери деревенского клозета находятся в верхнем ярусе, внутри крепостной стены, а через очко где-то внизу, у подножия замка, виднеется зелёная трава. Канализация сверху вниз.
– «Сверху вниз» – единственная достопримечательность? – я слегка расстроился: а вдруг в моём замке такие же туалеты? Спали в доспехах и не мылись месяцами…
– Видишь башню? Там наверху круглая площадка – часовой сообщал дымом костра о приближении врагов к другим дружественным замкам. Строили на совесть – для скрепления камней подмешивали белок, а налоги платили яйцами. Из конюшни рыцаря с лошади снимал подъёмный механизм и пересаживал его прямо в обеденный зал, правда, он разрушен Наполеоном.
– Круто. Пинту виски! Смешать, но не взбалтывать! А сколько весили доспехи?
– 40—50 кило.
– Офигеть! Мешок сахара таскать на себе. И что там сохранилось?
– Почти всё, хотя в XIII веке целых два года замок осаждали архиепископы Кёльна и Трира.
– Ну, с отделением Церкви от государства у вас явно затянули. Не надо было связываться с плохими парнями из Ватикана.
– С XVII века и до сих пор, – продолжил Марк, – замок в частном владении. Есть помещение суда, охотничий домик с оружием, колодец и винный подвал. В одной из башен собраны гербы всех родов, которые там жили. Сохранились даже каменные солнечные часы и часовня с подставкой для Библии ручной работы. Ещё есть темница и яма с костями узников на дне. Опозоренных женщин выставляли в кованой клетке на шесте за край стены, чтобы все крестьяне могли видеть. Остались даже колесо для ломания конечностей и орудия пыток.
– Тогда на хрена в часовне подставка для Библии?
– Люди верующие были, и, если ломали кости, то не за «дай закурить», а атеизм, ересь и нарушения заповедей. Была там ещё беседка для рыцарей, вроде курилки, но её Наполеон тоже разрушил.
– И тут нагадил! Слушай, а что, в замке Эльзы похожие клозеты?
– Вряд ли. Говорят, само великолепие. От туристов отбоя нет, разрушениям никогда не подвергался.
– Ты что-нибудь знаешь про него?
– Не много. Увидишь сам. Всё, что я знаю, замок расположен примерно в пяти-шести километрах от Мюнстермайфелда. Он стоит на скале, огибаемой с трёх сторон речушкой Эльзенбах, которая впадает в Мозель.
– Тогда сначала в городок, ты говорил, там большая церковь.
– Как скажете, маэстро. Кстати, впереди справа – Лёф, за ним железнодорожная станция. Осталось проехать Хатценпорт, потом резко уйдём вправо, – сказал Марк.
Мы повернули с набережной на запад перед железнодорожной станцией. Вскоре жилые дома остались позади, мы оказались на лесной дороге между густо поросшими пригорками.
– Что за шоссе?
– Второстепенное, кажется, L113. Мы едем по земле Рейнланд-Пфальц, юго-западу Германии. Здесь горы средней высоты, холмистая местность. Край замков – только от Кобленца до столицы земли Майнца их более ста, и это не считая сухопутных.
– Помню, ты говорил.
– Вообще, на Мозеле замки мало подвергались бомбардировкам.
– Союзнички предпочли долбить по культурным центрам типа Дрездена. Скажи, земля эта… Пфальц… большая?
– Федеральная земля Рейнланд-Пфальц граничит с Францией – ты же проезжал границу возле Трира. Образована из Баварского Пфальца, прусских прирейнских провинций Кобленц и Трир, четырёх округов бывшей прусской провинции Гессен-Нассау и леворейнской части Гессена в 1946 году. Здесь полно туристов, хотя где их только нет…
– Большая земля… И везде замки?
– Везде. По всей стране.
Мы ехали среди пашни. Впереди показалась деревенька – я едва успел прочесть дорожный указатель – Меттерних. И опять по обе стороны не было ничего, кроме полей, между которыми пролегали аккуратные асфальтированные дорожки. Через несколько минут мы уже въезжали в Мюнстермайфелд, значит, от поворота у реки до него было километров семь, отсилы восемь. Загородное шоссе переходило в Айфельштрассе, ведущую через пригороды к центру. Мы доехали до перекрёстка, образованного тремя улицами и, почти не меняя направления, въехали на Оберторштрассе. Марк был сосредоточен, а я старался запомнить схему улиц. Затем он свернул направо, на узкую Борнштрассе, и метров через двести мы упёрлись в небольшую, словно игрушечную, мощёную площадь Мюнстерплац, за которой стоял собор.
– Это и есть главная кирха святых Мартина и Северуса. Куда теперь?
– Паркуйся, в ногах правды нет, – я мучительно думал, как сказать другу, что решил здесь остаться, но поступить иначе не мог. Нам не часто удаётся вернуться туда, где проходила и обрывалась наша жизнь.
Марк развернулся и поставил «опель» на краю площади, почти напротив входа в церковь. Стрелки квадратного циферблата часов на церковной башне показывали 10 часов 27 минут.
– Ну, что надумал?
– Бутербродик-то дай. С сыром, с колбаской и с лососиной. И с кофе.
– Пора бы. Щас, – Марк потянулся за сумкой, – бери, я пока кофе налью.
– То, что я надумал, тебе не понравится. Этот городок меня очаровал, хочу, не торопясь его обойти, потом наведаюсь в замок. Тебе же надо на работу.
– Наведаюсь! Ну, ты даёшь. Имей в виду, тут автобусы между райцентрами и деревнями, как в России, не ходят, а до замка придётся шлёпать пёхом, и отеля при нём нет.
– Попрошусь на постой к какой-нибудь старой одинокой фрау, которая будет рада прибавке к пенсии и уложит на кровати времён Бисмарка. Вечерком она покажет мне пожелтевшие фотографии брата из гитлерюгенда и жениха в форме штурмовика СС, погибшего под Сталинградом, и вспомнит, как в 45-м подошли с запада освободители-американцы. А утром сварит крепкий кофе и прослезится от того, что я напомнил ей сына.
– Фантазёр. Не смеши меня.
– А что смешного? Знаешь, как запричитали наши деревенские бабы, завидев в глубинке щеголеватых немцев в грязи по щиколотку? «Сынки, заходите, мы же с вами воевали!»
– Мне Людмила за тебя разнос устроит. Как я мог гостя сюда одного отправить? Что я ей скажу?
– Скажи, что я большой мальчик и дня через два вернусь в Дортмунд. А тебе было некогда исполнять капризы какого-то придурка, который по-немецки знает только одно слово «danke», но не может выразить, за что. Обещаю в полицию не попадать. Усёк?
– Ладно, шут с тобой. Благодаря тебе, заеду к дальним родственникам в Нойвид, давно проведать хотел.
– Где это?
– По пути. Дальше Кобленца, километров пятьдесят отсюда. Давай, хоть в замок тебя отвезу.
– Сам дойду. Сколько до него?
– Километров шесть, – Марк взял карту. – Из города выходи по прямой, не сворачивай, – вот отсюда. Посередине пути будет Wierchem, пройдёшь прямо через него, увидишь дорогу направо, на Keldung, – туда не ходи, продолжай двигаться прямо по шоссе. Ну а там у кого-нибудь спросишь или заметишь дорожный знак.
– Найду, не беспокойся. Вот сюда добраться я бы без тебя не смог, – я допил обжигающий напиток. – Руку!
Марк протянул руку, мы попрощались. Обижаться он не умел, и за это я тоже его ценил. Я вылез из кабины, стряхнул крошки со штанов и сощурился от солнца.
– Чудак ты – с транспортом здесь проблемы, даже автостанции нет, – ответил он и повернул ключ зажигания.
– Что, совсем ничего?
– Только школьный автобус, который развозит детей. У всех же личный транспорт.
В ответ я на прощанье махнул рукой. Паликовский развернулся и уехал, а я остался стоять на булыжниках посреди площади с рюкзаком в руке. Настроение было мистическим. Мне не только предстояло осмыслить нечто, но и, возможно, раскрыть некую тайну, от которой зависела дальнейшая судьба. Но зря вы подумали, что я не испытывал в этот момент чувства растерянности и холодка пониже спины, – я не знал, в какую сторону и зачем идти, и в довершение всего, городок словно вымер, кругом ни души, в прямом и переносном смысле – средневековая глухомань.
Мюнстерплац была невелика – не более шагов ста на сорок, и примерно столько же занимала высокая, жёлтого камня, церковь. Вокруг всё вылизано почище, чем казарменный нужник зубной щёткой, – и дома, и тротуары, и каждый уличный булыжник. Храм по архитектуре был не прост: две круглые башни, двускатная и многоскатная крыши, узкая колокольня и ряд пристроек. Вход находился со стороны площади слева, под арочным, в готическом духе, сводом. Справа от площади стояло трёхэтажное белое здание с крупными буквами наверху – «Maifelder Hof», напротив церкви – сберегательная касса и музей, у которых припарковались легковые авто. С левой стороны площадь ограничивалась выходившей к ней Борнштрассе, по которой я приехал, а на углу этой улицы, наискосок, шагах в двадцати от входа в церковь, расположилось трёхэтажное здание с зелёными буквами на белой вывеске – кафе «Vulkan». Перед ним под большими зонтами были выставлены пять прямоугольных столов с плетёными креслами. С левого торца церковь была огорожена забором из неровных камней, к нему примыкала автостоянка, граничившая к кафе.



