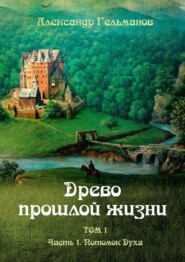
Полная версия:
Древо прошлой жизни. Том I. Часть 1. Потомок Духа
– История развивается по спирали, – многозначительно добавил Петельский.
– А есть ли в этом какая-нибудь историческая необходимость?
– Есть. У хозяина сала теперь появилась горилка с плавающим перцем. Фирменный закордонный подлинник. Еще запорожцы пили перед тем, как написать письмо турецкому султану. Исторический факт.
Оставалось только вернуться туда, где ещё было украинское сало. В этот раз оно было съедено вместе с плавающим перцем до конца, но мой сон повторялся еще три последующих ночи.
Это было время, когда вся наша семья жила в Одинцово. Мама работала учительницей, а отец и брат были людьми военными. Мы переехали сюда из Сибири, где я родился. Моего отца перевели под Москву к новому месту службы как раз в тот год, когда брат поступил в военное училище. А ровно через десять лет и я был принят на первый курс одного из столичных вузов. Вдохновлённый получением исторической специальности, я писал стихи, не спал по ночам во время зимних и летних сессий, влюблялся и думал, что так будет всю жизнь или, по крайней мере, неопределённо долго. Но кто бы из вас, будучи первокурсником, стал специально вбивать себе в голову, что так не бывает. Никогда и ни у кого. Кто бы из вас, пошедших в первый класс перед самым началом перестройки, стал особенно удивляться переменам, происходящим без конца и края? И кто бы из нас в это время, слушая лекции некоторых профессоров и доцентов, мог увидеть за некой печатью озабоченности и задумчивости нечто посущественнее вечных бытовых проблем?
В школе мне труднее давались точные науки, но всегда вызывали интерес такие предметы, как история с географией. Я подражал молодому Индиане Джонсу и постоянно таскал в кармане компас. С детства я был готов часами рассматривать глобус или любые карты вплоть до контурных и читать книги по истории, особенно, древней и средневековой западной и менее всего по новейшей. Будто на подсознательном уровне я понимал, что исторический период предпоследнего века будет не раз переделываться, переиначиваться. Но, учась в школе, я ещё не знал, что достаточно каких-нибудь двухсот лет, чтобы «во благо народа» беспрепятственно и безнаказанно переписать до неузнаваемости любую суть исторических событий целого государства, и народ не заметит такой подделки. Иногда, как это случалось со Второй Мировой войной, на это требовалось гораздо меньше времени. Но «чистописание» кому-то необходимо постоянно, а общество и государство по большому счёту никогда не извлекают уроков из своей истории. Одни не могут, другие не хотят, а третьим это на руку. «Свернули» же критику культа личности Сталина при Брежневе, сменившем Хрущёва, – и в учебники истории не попала даже часть полуправды. А то, что попало, было облечено в выверенные сотню раз формулировки мастеров эпистолярного жанра.
Когда мне пришлось выбирать, кем быть и куда идти учиться, я ещё не понимал, что учебники по истории пишутся людьми, предлагающими называть планеты солнечной системы именами своих вождей. Раньше историки состояли, как бы, на госслужбе, поскольку им всё предписывалось государством. А государство, как известно, это «я» или «он» и никогда не «мы» или «они», даже если при этом «я» учреждался какой-нибудь хурал или сенат. Это «я» могло, например, указать, кого надо ругать, кого ругать нельзя, кого ругать, но мало, а кого ругать всё время. Или, кого следует поругать легко, но так, чтобы впоследствии, если понадобиться, можно будет поругать посильнее, и чтобы из-за этого не пришлось переписывать исторический момент, значительно превышающий возраст долгожителя из книги Гиннеса, да так, что потом и мудрые профессора с дотошными аспирантами не разберутся, кто есть кто? Ну, с народом проще – ему подскажут по радио.
О-о, историк! – думал я тогда. – История! Это превращение обезьяны в человека, его первые поселения и рисунки. Шкуры, добывание огня и мамонты. Глиняные черепки, наконечники стрел и первое колесо. Киевская Русь, жестокие Иван IV и Пётр I, коварные Екатерины (обе). Рабы, феодалы, отблески костров Инквизиции, капиталистический пот от системы Тейлора и первые сказки ранних утопистов об обществе всеобщего благоденствия. И неоспоримое до сих пор учение о прибавочной стоимости, – той самой, которая оказалась характерна для социализма более, чем для капитализма. И, наконец, идея коммунизма – сначала как такового, а потом с заповедями Христа, но за пазухой у вождя. Очевидно, для уничтожения десятков миллионов людей сделали исключение из правил, то есть из заповедей. А в довершение века мы получили пару генеральных перестройщиков, приведших всех туда, куда им было надо, если судить не по словам, а действиям этих личностей согласно цитате классика, беззаветная преданность которому, была для них формой служения отечеству.
Может быть, я решил стать историком, чтобы самому себе ответить на вопрос, – могли ли в старину люди думать и чувствовать так же, как и мы, если со счетов сбросить технический прогресс, включая радиоактивное заражение среды, вредные продукты, секс по мобильнику и прочие издержки победного изнасилования человеком природы, в том числе, и своей собственной. А то, что эти издержки приближали, как могли, конец света, сомневаться не приходилось. И ещё я очень хотел выяснить, какой была история человечества и природы на самом деле, и поступил в педагогический институт. Но историю мне преподавали люди не по временным букварям и тем более, не по «Краткому курсу ВКП (б)», включённым в список обязательной литературы для сдачи экзамена. Они научили меня думать и видеть совершенно иные, неожиданные закономерности и, в итоге, абсолютно другую картину развития мира, опирающуюся на те же описанные в политизированной макулатуре исторические вехи, а пробелы между строк заполнять с помощью первоисточников, а не комментариев придворных академиков. Поэтому историю разлюбить я не смог, как родители не могут разлюбить своё ужасное и лживое дитя безобразного вида. Как выразился в пятидесятые годы бригадный генерал Вашингтон Плэтт, отдавший жизнь службе в стратегической разведке, – в ней нет ничего интересного, если вы не любите её. Так же можно любить историю, несмотря на её ужасы, ложь, ошибки и искажения. И несмотря на непрерывную череду негодяев и предателей, творивших абсолютное зло (разумеется, если вы не будете оспаривать, что зло всё-таки существует), годы жизни которых приводятся по тексту или в конце книг. В общем, ход мировой истории говорит одно (особенно, если листать книгу с самого начала, а не упираться в открытую кем-то для тебя страницу из середины), а очередные глашатаи истины, мягко говоря, другое. Посоветовавшись в своё время со своим научным руководителем, я выбрал кандидатскую тему из мрачного Средневековья (неважно какого), а не весёлых будней индустриализации и коллективизации или всех других не менее героических будней. Песни Любови Орловой меня не вдохновляли, хотя довоенные песни, вообще, я знал и любил. Не мог я воспринимать слова о стране, по которой вольнодышащий человек проходит как хозяин своей родины, в то время, когда каждый боялся громкого ночного стука в дверь. Никакие усилия не могли скрыть ложь этих слов и всего того времени, сколько бы мы не продолжали петь тех песен и смотреть тех фильмов, называя их легендарными. Единственное, о чём можно было пожалеть молодому историку, так это о полном отсутствии возможности променять пыльный и не всегда доступный архив или закрытый фонд некоторых библиотек на машину времени. Но это, как говорится, совсем иная притча.
Закончив педагогический институт и сдав на «отлично» всевозможные «истории» по увесистым вузовским учебникам и уже работая на кафедре, я неожиданно обнаружил, что в нашей семье и семьях моих близких и дальних родственников более старших поколений, о которых я знал или слышал, почти все известные мне люди были либо военными, либо имели педагогическое образование. Для меня лично это, в какой-то мере, было не только олицетворением силы и знаний, но и мощи и духовности своей страны. Произошло это как раз в те годы, когда я прошёл аспирантуру того же института, успешно защитился и был оставлен на его кафедре в качестве преподавателя.
В Российских вузах 90-х годов лектору с трибуны уже не следовало доказывать всенепременный тезис о том, что советские граммофоны «лучше и больше» японских панасоников, а главное, никто не заставлял вдалбливать в наши разжиженные студенческие головы научных основ несуществующей в природе общественно-экономической формации, развивая идею о коммунизме, как высшей стадии развитого социализма, и прочий легкоопровергаемый бред.
В эти же годы прочно утверждался дикий капитализм, обезображенный следами социализма с человеческим оскалом, – ни настоящего, например, шведского или норвежского социализма, ни западного капитализма, не возникло. Ведь мы привыкли всё выстраивать на пустом, разрушенном до основания, то есть, читай, – разворованном месте. С нуля. Зачем нам старые чертежи рухнувшего здания, да и вообще чертежи? Отстроим всё заново, как на ум придёт. Дяде. И дядя всегда и во всём опережал всех, первым оказываясь на месте закладки нового фундамента. Согласно одному экономическому закону, недостаточно глубоко усвоенному широкими народными массами. Или поверхностно постигнутому, – приблизительно так же, как странно звучавшее и непонятное до конца слово «ваучер». Ваше слово, товарищ ваучер! – провозгласили новый лозунг. – Маузер был в прошлый раз. Согласно этому хитрому закону, между этими словами не было никакой разницы, так как за ними стояло одно и то же: революция с ломкой старых форм собственности, потому что просто так делать революции у нас никто не будет. История хотя и повторяется, но всегда придумывает для этого новый повод. И по этой причине народ никак не может уследить за сменой форм собственности и владельца того, что этим народом было в стране создано. А как уследишь, если в прошлый раз народу, как «движущей силе», предложили поучаствовать в революции, чтобы по справедливости дать землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам и мир народам, а в этот снова обещали то же самое, но ни у тех, ни у других ничего этого нет? Так что причина следующей революции останется прежней, но поводом будет уже не ваучеризация, а что-то иное. И народ, как движущую силу, обязательно пригласят поучаствовать в смене владельца и в следующий раз. Без народа тут никак нельзя. Это же не мелкое последующее перераспределение собственности, при котором отдельные зазевавшиеся граждане немного дохапают, переделят и постреляют. А теперь, самое главное, до поры до времени успокоить электорат телевизионным благоденствием и верой в великую Россию, назначить праздники примирения, единения, согласия и большие новогодние каникулы для взрослых. Гуляй, страна, – доходы граждан уже растут. Но об этом лучше спросить у самих граждан, немного отъехав на электричке с любого вокзала.
Интерес, – не к своему предмету, а к работе на кафедре, постепенно был утрачен. Время не способствовало самоутруждению какими-то серьёзными историческими изысканиями. Профессорско-преподавательский состав обновился. Мои коллеги из других вузов зачастую вместо дежурного приветствия «здравствуй, как дела?» при встрече спрашивали, где бы можно подзаработать, в каком образовательном заведении почитать лекции или, где бы просто подежурить за разовый заработок. Некоторые мои знакомые, попрощавшись с тем или иным вузом, переоделись в чёрную форму охраны рынков и других злачных мест. Продолжать работу без удовлетворения мне не хотелось, и я решил, что найду другое место, где устроюсь почасовиком и буду собирать материалы по теме, которая меня интересовала. И устроился сразу в двух местах.
Истинной причиной скрытого производственного конфликта и моего ухода из института было поощрение некомпетентных бездарей, поставивших образовательный процесс на рыночные рельсы в худшем смысле этого слова. По ним, как и в любой сфере общественного и государственного бытия, теперь умудрялись ездить все. Любое чиновничье кресло способствовало продвижению личного бизнеса, а если такового не было, его роль играло само кресло. Мне неприятно резало слух презрительно произносимое людьми и всеми СМИ слово «чиновник». Дело не только в том, что так мы не научимся уважать госслужащих и государство, а в том, что в эту презрительность мы вкладываем всё, – и наше знание о том, что более двух третей или четырёх пятых чиновников берут взятки, и компенсацию своим презрительным тоном полного бессилия перед государственными вымогателями. Эта презрительность означает лишь ощущение нашей будущей беспросветности. «Чиновник» – должно звучать гордо и сейчас, но при этом надо сильно ударить взяточников по рукам, и, может быть, отрубить их, как за кражу в Древнем Китае. Пусть ходят, стыдливо засовывая в карманы то, что им оставили из гуманизма. Но для этого на самом верху должны найтись лица, которые растолкуют обществу, что стыдно, а что нет. Власть заставляет нас жить с презрением к ней, и, как видно, ей уже давно некуда торопиться. Не хочет она никому доказывать, что чиновник и взяточник – не одно и то же, – лучше терпеть косые взгляды, чем отказаться от взяток. Проблема, однако, в том, что в стране, в которой границы понятия «государство» сузились до определения «чиновничество», позаботиться о нас больше некому.
Созданная система выплёвывала из своего порочного круга порядочных людей, оставляя тех, чьи руководящие речи, произносимые якобы в духе времени, для всех должны были становиться принципами. Творческая деятельность становилась чужеродной блажью, а творческий подход сменила обычная коммерческая заказуха. В итоге я ушёл из института, заявив, что больше не хочу работать на кафедре, где одни принимают ежедневную мзду (умножьте-ка её на учебную группу), других заставляют это делать, а остальные виноваты в том, что отрываются от коллектива. Мне сразу возразили вопросом, сформулированным ровно за шестьдесят лет до моего рождения: «А разве мнение вновь назначенного руководства кафедры и её коллектива для вас уже ничего не значит?» – «Вы называете это кафедрой?» – ответил я вопросом и пояснил, что последняя напоминает не коллектив, а то, чему уже давно есть соответствующее наименование. Никаких фамилий я не назвал, ибо мой собеседник и так знал всё.
В общем, моё упоминание об этом напоминании тут же вызвало особую реакцию лица, бывшего вправе делать новые кадровые назначения. Но последняя реакция была за мной, – я не стал дожидаться, когда он докричит, и с размаху так треснул дверью с другой стороны, что от дверной коробки чуть не отскочили петли, а со стола, наверно, посыпались бумажки. Я знал, что, уходя, нельзя хлопать дверью. Но я хлопнул только одной дверью в целом здании, и за ней сидел лишь один человек. Тот самый человек с правами и принципами, из-за которого другой человек получил последний инфаркт. И мне было глубоко наплевать, даже если на следующий день поползут слухи о том, что мне вручили диплом около метро, я предал своего научного руководителя или сплю со студентками во время сессий. Я не был конфликтным человеком или бунтарём, но терпеть откровенную демагогию вокруг себя не желал, хотя и получил оба своих диплома именно в этом институте. И считал, что человек красит место, а не наоборот. Того чиновника потом не то переместили, не то сместили, но возвращаться на прежнее место работы я не спешил, – хотел сделать то, над чем уже начал работать.
У меня имелось ещё одно любимое дело – хобби сезонного характера. Это были экспедиции, во время которых мы изучали таинственные, загадочные, удивительные и аномальные места России, ближнего и дальнего зарубежья, однако, мне лично попасть за границу пока не удавалось. Зато поездки по Подмосковью, в Волгоград, на Урал, Дальний Восток и на Байкал оставили неизгладимое впечатление. Носить рюкзак соблазнил меня друг по институту Славка Петельский, и, начиная с последнего курса, я отправлялся куда-нибудь почти каждый год. Возвращался я загорелым, окрепшим, похудевшим, но жилистым и полным сил. Славка потом перестал ездить со мной, по-настоящему увлёкшись другими тайнами – хирологии. Но я приобрёл много новых друзей, и с некоторыми из них встречался ежегодно. Сроки экспедиций были разные – выезжали и на неделю, и на месяц, а иногда на всё лето. Состав команды тоже был различный – от не служившей в армии молодёжи до пенсионеров, – все сплошные энтузиасты и насквозь романтики, и всем хотелось открыть землю Санникова или покопаться на берегу скелетов. Иначе и быть не может. И каждый верил и знал, что приносит пользу, исследуя места нашей общей земли. Мы изучали аномальные места, например, с пространственно-временными трещинами, с изменённым электромагнитным полем, места появления необычных существ, призраков или вероятных посадок НЛО, таинственные пещеры, катакомбы и подземные ходы, загадочные горы и равнины с остатками древних цивилизаций и памятников. Мы постоянно что-нибудь фотографировали и измеряли, копали и строгали, сидели в ночных засадах и вели свои дневники.
Всё это называлось научно-исследовательским общественным объединением «Космопоиск». Оно работало на самоокупаемости, поэтому мы трудились бесплатно, а пропитание и билеты приобретали сами. Жили в палатках или в чём придётся. Региональных организаций в нашей области было достаточно. Несколько лет назад я впервые позвонил в штаб одной из них и попал на очередной слёт окружного масштаба. Мне предложили заполнить анкету, где я ответил на вопросы о том, бывал ли раньше в походах, какими навыками и инструментами владею, занимался ли альпинизмом, плавал ли на байдарках, увлекался ли спелеологией. Я указал свою группу крови (так положено) и специальность. Оказалось, что ничем существенным я не владею и не занимаюсь, не плаваю и не увлекаюсь, а из инструментов пришлось назвать шанцевый. Зато вместо длинной фразы «читаю и перевожу со словарём» в соответствующей графе я мог указать всего одно слово. Но как историк я был понят и принят. Координатором, организатором и вдохновителем всего движения был Вадим Александрович Чернобров, которого я никогда не видел, но очень много о нём слышал. В прошлом году были изданы две его объёмистых энциклопедии – загадочных мест России и мира. В конце книги вы сможете найти телефоны организаций Космопоиска, и, может быть, вам захочется позвонить по одному из них.
Попадая в экспедиции отряда «Космопоиска», я проводил в палатках под звёздами целые недели. А какие рядом со мной были люди! Мы искореняли нецензурщину и сленг, устраивали лингвистические конкурсы и разговаривали о Тайной доктрине Блаватской и библейских пророках. Я расширил свои познания в области архитектуры, археологии и географии. Было интересно послушать и тех, кто был моложе меня, и уже пожилых членов своей команды. А приходилось ли вам когда-нибудь бывать среди людей, случайно переносившихся в другое измерение и в другое время или всерьёз рассказывающих о достижениях в конструировании машины времени? Это вам не стойбище курортников и не туристический лагерь, это почти учёные, приехавшие сюда с одной целью – исследовать окружающую среду, а не глазеть по сторонам, напялив на себя шмотки помоднее. И тем более, это не походило на полудикое экзотическое телешоу на необитаемом острове, на котором его цивилизованные участники, чтобы заполучить миллион, «оставшись в живых», голосовали за выбытие из племени самого несимпатичного претендента. Каждый вечер решался вопрос – кого бы «съесть на ужин», поскольку обитатели острова должны были выживать не сообща, не за счёт себя, а своих товарищей. Неужели в основу шоу нужно непременно положить разжигание подобных страстей, на которые у зрителей и так растёт спрос? Кстати, опытный психолог, проанализировав межличностные отношения и создав скрытый конфликт между кем надо, ради таких денег мог бы легко разделаться по очереди с каждым конкурентом как на острове десяти негритят Агаты Кристи. Литературы по данному вопросу в магазинах было достаточно: как «посеять» конфликт, как «разжечь» конфликт, как выйти «сухим» из конфликта, ну, и так далее. Целая конфликтология шиворот-навыворот. Или участники шоу все, как один должны быть святее своих организаторов-шоуменов и самого папы римского? Ну, что ж, «ничто нас так не развивает, как путешествие», – говаривал Святослав Рерих.
Осенью у некоторой части городского населения всё чаще звучал вопрос, куда ты запропастился на лето? Но не потому, что кто-то так истосковался по своему знакомому или питал к нему искренний интерес, а лишь потому, что хотелось знать, куда человек ездил в сезон отпусков: на Ибицу, в Крым или Нижние Шишаки. По тому или иному ответу было легко судить о степени самоуважения, престижа и материальной обеспеченности. От этого зависело, продолжать ли с человеком знаться и водиться или не стоит. Прослойка наших удачливых граждан слишком боится попасть под влияние неудачников. Кому же захочется слушать про больных родителей, супругов и детей? Я охотно удовлетворял интерес любопытных, на ходу сочиняя, «как я провёл лето», красочно и напропалую выдумывая про Мальдивы и Гонолулу, Иерихонские джунгли и Коверкотовы острова. И мне верили без фотографий. Не то, чтобы я гонялся за личным престижем, а просто пару раз увидел в глазах собеседника плохо скрытую зависть и решил проверить, возможно ли такое. Ну, потом пошло-поехало – не на одно школьное сочинение бы хватило. А между поездками я преподавал и предавался чтению книг. И читал, читал, читал. Весь учебный год в предвкушении новых экспедиций по области или по стране. Я любил эти увлекательные путешествия – напряжённую работу в течение дня, от которой ныли мускулы, вечернее сидение вокруг обязательного костра с байками, комарами и печёной картошкой под звёздным небом, под проливным дождём, палящим солнцем или ветром в бескрайней степи. И где-то там, – где ночное небо смыкается с глухим лесом, – одинокий огонёк, до которого обязательно хотелось дойти.
Каждую весну я звонил в организации «Космопоиска» московского региона и через знакомых искал подходящие маршруты на предстоящее лето. Собирался сделать то же и в этом году, если, конечно, не отправлюсь с друзьями в Гималаи или на Тибет. Эта идея была соблазнительной для такого бродяги, как я. А то, что я в душе был бродягой, мало кто сомневался. Ярлык пилигрима ещё не означает непостоянства или ненадёжности. Ведь и среди бомжей тоже попадаются разные люди.
Мои материальные запросы составляли лишь книги и квартплата, а дамы у меня не было. На первый взгляд, могло показаться, что я жил не только уединённо, но и замкнуто. Наши родители не так давно умерли, – сначала отец, потом и мать. Моя однокомнатная квартира располагалась в Одинцово, недалеко от станции и места, где когда-то жила вся наша семья. Мой брат, как и отец, всё время прослужил в одном стратегическом роде войск, на любом расстоянии защищавшем небо и землю. В прошлом году брат вышел на пенсию, или в запас по семейным обстоятельствам, отслужив двадцать лет, и сразу устроился на работу в частную фирму, или как там она зовётся. Жил он теперь на северо-западе Москвы, но чаще всего мы встречались с ним на Комсомольской площади. Так уж у нас повелось. Постоянная разница в возрасте у нас не сглаживалась, и похоже было, что не изгладится уже никогда. Наверное, есть отношения, которые не меняются и за всю историю человеческой жизни. После смерти родителей я всегда мог положиться на брата, а брат всегда полагался лишь на самого себя.
– Может ли быть открыто человеку будущее?
«Вообще, оно сокрыто от человека и только в редких и исключительных случаях Бог разрешает откровение».
– С какою целью будущее скрыто от человека?
«Если бы человек знал будущее, он пренебрегал бы настоящим, воля его не была бы так свободна. Он или бы совершенно не заботился о будущем, зная, что оно должно произойти, или старался бы всё сделать, чтобы помешать ему. Бог не пожелал этого в тех видах, чтобы каждый содействовал исполнению вещей даже тех, которым человек желал бы воспротивиться; так и ты, сам того не подозревая, готовишь события, которые происходят в твоей жизни».
– В таком случае, зачем же иногда бывает откровение будущего?
«Это бывает тогда, когда предварительное знание должно облегчить исполнение события. Кроме того, часто это бывает испытанием. Ожидание события может возбудить мысли более или менее добрые. Если человек будет знать, например, что получит наследство, которого не ожидает, в нём может пробудиться чувство жадности, желание поскорее получить наследство, чтобы насладиться земными благами, и при этом он может желать смерти того, кто его обогатит. Или же, напротив, перспектива эта возбудит в человеке хорошие чувства и благородные мысли. Если предсказание не исполняется – тут другое испытание: как человек перенесёт разочарование. Но, тем не менее, ему всегда вменяются в заслугу или в вину те хорошие или дурные мысли, которые породит в нём вера в событие».



