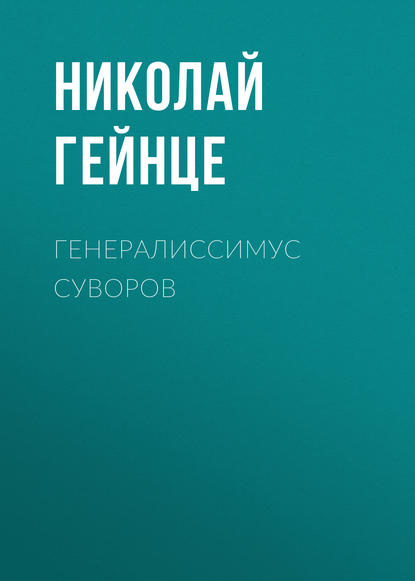 Полная версия
Полная версияГенералиссимус Суворов
Павел Петрович, видя смущение юноши-племянника, сделал вид, что поверил, и еще не раз приглашал Суворова к столу и на разводы, обращался с ним милостиво, наводил разговор на прежнюю тему о поступлении на службу, но получал в ответ уклончивые заявления о старости и болезнях.
Мало того, Александр Васильевич не переставал «блажить», не упускал случая подшутить и осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение – не только в отсутствие, но и в присутствии государя.
Садясь в карету, он находил большое к тому препятствие и в прицепленной сзади наискось шпаге, которая якобы не дозволяла ему проникнуть в каретную дверцу. Он запирал дверцу, обходил карету, отворял другую, старался в нее протискаться, но опять безуспешно.
На разводе он делал вид, что не может справиться со своей плоской шляпой, снимая ее, хватался за поля то одной, то другой рукою – все мимо и наконец ронял ее к ногам сумрачно смотревшего на него государя.
Между проходившими церемониальным маршем взводами Суворов бегал и суетился, что считалось крайним нарушением порядка и строевого благочиния, при этом он выражал на лице своем то удивление, то недоумение, шептал себе что-то под нос и крестился.
Однажды государь спросил его:
– Что ты делаешь?
– Читаю молитву: «Да будет воля Твоя», ваше величество, – отвечал Александр Васильевич.
Через несколько дней последовал строгий приказ о благочинии на разводах, но имени Суворова не упоминалось.
После каждой выходки Александра Васильевича государь обращался к князю Горчакову и грозно требовал объяснения, говоря, что на его обязанности лежит вразумить его дядю.
Государь, перед которым все трепетало и безмолствовало, в котором малейшее противоречие не в добрый час производило взрыв страшного гнева, переломил себя и оказал Александру Васильевичу необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника.
А между тем дело было простое. Суворов жил для военного ремесла и олицетворял его в издавна усвоенном известном смысле, отречение от которого было для него самоотречение.
Все бесцельнее, скучнее становилось его пребывание в Петербурге. Наконец, выбрав время, он прямо попросил у государя дозволения возвратиться в деревню.
Первое время по возвращении в деревню Суворов блаженствовал. Петербургские впечатления были еще свежи. Ненавистный ему Николаев не появлялся, и никаких признаков прошлого надзора не замечалось. Александр Васильевич дышал свободно.
Он принялся за свои обычные занятия, стал изредка посещать соседей и принимать их у себя. Кроме того, он весь отдался делам хозяйственным.
Недели через две после приезда из Петербурга Александр Васильевич, сам наблюдавший за плотничными и другими работами, вышел посмотреть на строящийся амбар, шутил, балагурил и подбадривал плотников.
Вдруг к нему приблизился вошедший на барский двор монах и совершенно неожиданно упал к его ногам. Суворов засуетился.
– Что ты, помилуй бог, что ты, отец, кто ты?
Он поднял монаха, посмотрел ему в лицо, прищурил глаза, а затем воскликнул:
– Да неужели это ты, Николай Петрович?
Перед ним в монашеском одеянии действительно стоял Николай Петрович Лопухин.
XII. Исповедь монаха
– Помилуй бог, да неужели это ты? – продолжал недоумевать Александр Васильевич Суворов, то пристально взглядывая на стоящего перед ним монаха, то жмуря глаза, как бы вспоминая далекое прошлое.
– Был, был! – чуть слышно прошептал монах.
– То есть как был? Помилуй бог, ведь ты есть, значит, есть.
– Не совсем так, граф Александр Васильевич, я есть и нет меня, – отвечал монах.
– Что ты меня, помилуй бог, морочишь? Есть и нет, что за оказия? Не явился же ты с того света?
– Хуже, я умер заживо, я в схиме.
– Час от часу не легче! Пойдем в горницу. Расскажи толком… Офицер, бравый офицер. Я думал уж он генерал, женат, ан вдруг… монах. Живой покойник. Помилуй бог, ничего не понимаю.
Он быстро пошел по направлению к дому. Монах следовал за ним. Поднявшись на невысокое крыльцо с тесовой крышей, они прошли прихожую и вошли в первую комнату нового суворовского дома.
– Садись и рассказывай. Помилуй бог, странно, – сказал Александр Васильевич, садясь на стул и указывая рукой на другой своему гостю.
Тот сел с видимым наслаждением.
– Затем и пришел к вам, батюшка-граф, ваше сиятельство, чтобы хоть одному живому человеку грех мой страшный исповедать. Наедине с самим-то собой, ох как жутко, двадцать пять лет молчал, двадцать пять лет терпел, не вытерпел.
– Двадцать пять лет, – повторил Суворов.
– Четверть века, граф, грех свой замаливаю, не замолю. На духу признаться не смею. Не то чтобы казни земной боюсь. На муки тела не посмотрел бы, когда четверть века муки души испытываю. Но то боюсь, не мало ли казню себя, не мало ли страдаю. А спросить кого? Некого. Обходил всю Русь-матушку вдоль и поперек, по всем святым местам Господу моему молился. На Афон сподобил меня Господь попасть, десять лет там пробыл, да снова в Россию, на родину потянуло. Вот уж пять лет в Ниловой пустыне, близ Новгорода, живу. Недалеко здесь. Прознал я, что вы в своем именье проживаете, рвался идти, да сдерживался, потом решил, да слух прошел, что вы в Петербург к царю поехали. Значит, думал, не судьба. А потом прослышал на днях, что назад возвратились. Надо идти, думаю. И пошел. Ему, мыслил я, когда-то в юности душу свою открывал я. Открою и в старости грех мой незамолимый. Все, может, легче станет, как живому человеку расскажу. Наедине-то с грехом страшнее.
Александр Васильевич слушал внимательно, не отводя глаз от истомленного, страдальческого лица монаха. Когда он кончил, Суворов невольным шепотом спросил:
– Какой же такой грех-то?..
– Человека убил я.
– Безоружного?.. – даже привскочил Александр Васильевич. Монах молчал, низко опустив голову.
– Да, – чуть слышно прошептал он после некоторой паузы. – В упор, как собаку.
Он поднял голову. В его потухших глазах блеснул злобный огонек, а в голосе прозвучали ноты еще не улегшейся ярости. Все лицо его до того исказилось, что Александр Васильевич, не бывший, как мы знаем, человеком робкого десятка, невольно отшатнулся на стуле.
– Не улеглось еще! – скорее прохрипел, нежели произнес монах. – В четверть века не улеглось. Потому-то и на духу не признаюсь, что знаю, что все эти года грешу, злобой грешу, с этим грехом и перед престолом Всевышнего предстану. Один Он мне судья. Мне и ему. Точно вчера случилось это. Как теперь его вижу и лицо его подлое, испуганное. Точно умереть тяжелее, нежели убить. О, убить куда тяжелей, а я… я убил.
– Кого? Где? – снова упавшим голосом произнес Суворов.
– Поляка.
– Мало мы с тобой поляков перебили. Помилуй бог, немало, – заметил Александр Васильевич.
В его уме мелькнула мысль, что его бывший адъютант повредился в уме и картины битвы в первой польской кампании, в которой он участвовал, представляются его расстроенному воображению убийством.
– То на поле брани, а это в Москве, в квартире.
– В Москве, в квартире, – повторил Суворов, убедившись в своем ошибочном предложении.
– Вы, может быть, не забыли, граф Александр Васильевич, – начал гость после продолжительной паузы, потребовавшейся для его успокоения, – что еще в последнее время пребывания моего в Польше я получил от моей матери из Москвы несколько писем, проливших целительный бальзам в мою наболевшую душу, измученную томительною неизвестностью. Она писала мне, что ее посещает княжна Александра Яковлевна Баратова, та самая, медальон с миниатюрой которой я носил на своей груди и ношу до сих пор. Это была моя первая чистая, юношеская любовь, первая и… последняя. Мать сообщила мне, что княжна справлялась обо мне, что она, видимо, меня помнит, знает, что я любил ее и люблю ее, и, как кажется, отвечает тем же. В последнем письме матушка уже говорила прямо, что княжна согласна быть моей женой и что свадьба будет сыграна вскоре после моего приезда в Москву. Это неожиданное счастье положительно ошеломило меня. Столько лет надежд… и эти надежды осуществлялись. Вы еще тогда сказали мне: «Мальчик, чему ты так радуешься, ужели тому, что кончается война!» Я рассказал вам все тогда же откровенно. «Что же, женись… – сказали вы мне. – Каждому человеку должно жениться». Помните?
– Вспоминаю, – мрачно заметил Александр Васильевич.
Воспоминание о его прежних мнениях о браке, видимо, навело его на грустные мысли.
Монах смешался. Ему известна была неудачная женитьба Александра Васильевича, и он понял бестактность своего напоминания о браке. Некоторое время он молчал.
– Что же дальше? – угрюмо спросил Суворов.
Он понял причину смущения Лопухина, и это расстроило его еще более.
– Таким образом, получив отпуск, я, полный радужных надежд, полетел в Москву уже почти объявленным женихом княжны Александры Яковлевны Баратовой. Сколько раздал я по дороге рублей, сколько рассыпал колотушек, понукая ямщиков, которые и так летели стрелою. Наконец я очутился в Белокаменной и упал в объятия моей старой матушки. Первые мои слова после приветствия были: что княжна?
– Хотела сегодня быть у меня, чтобы встретить тебя вместе, – отвечала матушка, – но не приехала, ума не приложу отчего.
Сердце мое, как теперь помню, болезненно сжалось от тяжелого предчувствия.
– Может, занездоровилось немного, это бывает. Послать мне было узнать неловко. Навязываться. Завтра сам съездишь, – заметила матушка.
– Отчего не сегодня? – порывисто спросил я, томимый предчувствием.
– Оттого, что, во-первых, поздно, уже седьмой час вечера, а во-вторых, что скажут люди, что ты один вечер в первый день приезда не можешь посвятить матери, – полунаставительно, полуобидчиво сказала матушка.
Я понял, что она была права, и остался со своими томительными предчувствиями до другого дня.
Предчувствия меня не обманули.
Когда на другой день, в два часа, я поехал к княжне Баратовой, она лежала в постели, без памяти… с ней накануне сделалась нервная горячка. Лучшие доктора были около больной.
Одного из них я встретил выходящим. Я догнал его на лестнице.
– Что с княжной? – спросил я.
Он оглянул меня недоверчиво с головы до ног.
– Я ее дальний родственник, только вчера приехал из Польши, с театра военных действий, – заговорил я.
Эскулап смягчился.
– Горячка, видимо, от страшного нервного потрясения. Расспросы окружающих о причине не привели ни к чему. Последний с ней говорил ее поверенный, граф Довудский, но его здесь нет, а потому его и не спрашивали.
– Граф Довудский, граф Довудский, – повторял я, все еще стоя на ступеньках лестницы, когда доктор уже успел спуститься вниз и уехать. Это имя мне было известно. Этот негодяй пользовался в Москве славой подлого, но искусного альфонса. И он – поверенный княжны Александры. Было время, она не выносила его присутствия в одной с нею комнате. Что же это значит?
Все это жгло мне мозг. Я почти терял сознание. Я не помню, как я спустился с лестницы, как приехал домой.
– Что с тобой? На тебе лица нет, – встревоженно спросила меня матушка.
– Княжна больна. Лежит, я ее не видел… – смог проговорить я и упал в кресло.
– Больна! Я так и знала, а то бы она, голубушка, еще вчера бы тебя встретила, она так ждала тебя.
– И взяла к себе поверенным графа Довудского, – со злобой заметил я.
Матушка не поняла меня: она жила слишком замкнуто, чтобы знать все мерзости московского большого света. Она только тревожно посмотрела на меня.
– Я пойду к ней, – сказала она.
– Поезжайте, поезжайте, – ухватился я за мысль если не видеть ее, то, по крайней мере, иметь о ней известия.
Матушка поехала.
Вернувшись часа через два, она сообщила мне, что княжна действительно без памяти.
Она стала ездить к больной ежедневно.
Недели через две княжна пришла в себя и стала поправляться, но доктора запретили ей всякое волнение.
– Когда я могу увидеть ее? – приставал я к матушке.
– Погоди, теперь нельзя, ей запретили всякие разговоры, а тем более с тобой.
– Почему тем более?.. – допытывался я.
– Да ведь она тебя любит.
– Она вспоминает обо мне?
– Вспоминает, – говорила моя матушка.
– А граф Довудский бывает?
– С какой стати. Никого, кроме меня, сиделки, прислуги и докторов. Он даже прислал все документы и отказался от должности поверенного. Тоже нашел время.
Это меня еще более заинтересовало – я каким-то чутьем угадывал, что причиною болезни княжны был этот польский граф.
«Что произошло между ними? Был ли отпор назойливому ухаживанию этого франта или же разрыв после связи?» – вот вопросы, которые раскаленным железом жгли мне мозг.
Время шло. Прошел месяц, начался второй.
– Что же княжна? Поправляется? – спрашивал я каждый день у моей матери, которая, как я заметил, стала неохотно отвечать на мои вопросы.
– Все еще слаба, все еще слаба, – говорила матушка.
Наступил наконец день, когда матушка совсем не поехала к княжне Баратовой. Я спросил ее о причине. Матушка смешалась.
– Княжну увезли… на теплые воды, – начала она.
– Увезли… и она позволила увезти себя, не повидавшись со мной? Что же это значит? Зачем же она морочила меня и вас?.. Боже, Боже…
Я зарыдал, как ребенок.
– Коля, Коля… успокойся, забудь ее… – обхватила мою голову своими руками моя матушка и стала покрывать ее поцелуями.
– Не могу, не могу. Куда она поехала, скажите мне, вы знаете. Я полечу за нею.
– Бесполезно, добрый мой, видно, надо говорить все, видно, надо повторить то, что она открыла мне под строжайшей тайной. Она поехала в Киев, в монастырь. Она решила посвятить себя Богу. Забудь ее.
Я смотрел на мою мать во все глаза. Я ничего ровно не понимал из того, что она говорила мне.
– В монастырь?.. Богу?.. Почему?..
– Она не стоит тебя. В день твоего приезда с ней случилось страшное несчастье. Ее погубили.
– Граф Довудский? – вскричал я.
– А ты почем знаешь? – наивно спросила матушка. Этим было сказано все.
– Но если она не виновата… – начал было я.
– Она, конечно, не виновата. Но она видит в этом перст наказующего ее Провидения. Я уже говорила с ней. Я за тебя ручалась, что ты все простишь ей, что ты ее так любишь.
– А она?
– Она непреклонна. Она не хочет даже видеть тебя.
– А тот негодяй?
– Она простила ему.
Я заскрежетал зубами, но сделал вид, что успокоился.
– Что делать, значит, не судьба, – заметил я, после некоторого молчания, с напускным равнодушием.
Я обманул чувство матери – она поверила моему успокоению.
Между тем в голове моей созрел план. Я обдумывал его и приготовлялся к его исполнению в течение нескольких месяцев. Наконец я заявил матери, что мой отпуск кончился и мне надо ехать в армию.
Старушка примирилась с необходимостью, снарядила меня в дорогу и проводила меня благословлениями. Я выехал с рассветом, но доехал только до первого постоялого двора на окраине Москвы. Здесь я нанял горницу, переоделся из форменного в заранее мною приготовленное простое русское платье, оставил все вещи на постоялом дворе, сунул за пазуху заряженный пистолет и отправился на квартиру, где жил граф Довудский.
Я знал образ его жизни, я изучил его ранее. Я выждал, когда его лакей вышел из квартиры, посланный зачем-то графом, вошел на крыльцо и позвонил. Мне открыл сам граф, одетый в утреннем роскошном шлафроке. Я выхватил пистолет и в упор выстрелил ему в голову. Он упал, не вскрикнув, с разбитым черепом. По счастью, на дворе никто не слышал выстрела. Я вышел и свободно ушел со двора.
Вернувшись на постоялый двор, я снова переоделся в форменное платье, велел ямщику уложить чемодан и тронулся в путь. Я ехал в Петербург, куда двинулись войска из Польши. Мое преступление, я в этом был уверен, могло остаться безнаказанным.
Но, увы, я горько ошибся. Наказание убийцы в нем самом. Оно – это наказание – началось и продолжается до сих пор. Прибыв в Петербург, я уже не в силах был бывать в обществе. Бессонные ночи, ужас одиночества, страх людей – все соединилось вместе. Я подал прошение об отставке и получил ее очень скоро, так как меня считали помешанным. Я удалился на Валаам и сделался сперва послушником, а затем через пять лет принял схиму под именем Феофила. С тех пор я стал странствовать и только последние пять лет нашел приют в Ниловой пустыне. Но преступление мое ходит за мной. Я не нахожу покоя. Вот вам, граф, моя исповедь.
Отец Феофил умолк.
Молчал и Александр Васильевич. И что мог он сказать ему. Он понимал убийство только в битве, лицом к лицу с вооруженным врагом – другое убийство было и по его мнению преступлением, а самосуд лишь усугублял вину.
– А что же княжна Баратова?
– Она постриглась в монастырь в Киеве… Я видел ее издали, но не хотел нарушить ее душевный покой, – отвечал монах.
– А ваша матушка?
– Она умерла, – сказал отец Феофил, и две крупные слезы скатились по его щекам.
Суворов молчал.
– Что же вы, граф, мне посоветуете, чтобы примириться со своею совестью? – спросил монах.
– Молчать, – отвечал Александр Васильевич, – так как разговор о прошлом нарушает мир души… Речь – серебро, молчание – золото.
– Молчать, – серьезно повторил отец Феофил. – Вы правы… Это было искушение. Вы были когда-то мне близки. Я не повторю этого.
Монах встал и, до земли поклонившись Суворову, вышел. Александр Васильевич не удерживал его. Он сидел в глубокой задумчивости.
XIII. Спаситель царей
Александр Васильевич не заметил ухода Николая Петровича Лопухина, весь отдавшись мыслям о далеком прошлом.
Когда он пришел в себя, монаха не было не только в комнате, но и в селе. Он уже быстро шагал по боровичской столбовой дороге.
Суворов некоторое время с недоумением смотрел на пустой стул, на котором только сейчас сидел его бывший адъютант, спасший четверть века назад ему жизнь, в суровой монашеской одежде и исповедовался перед ним в страшном преступлении.
Время шло.
Острое впечатление от неожиданного визита Лопухина миновало, но хорошее расположение духа лишь изредка за эти дни посетило Александра Васильевича. Скука и тоска одолевала его все больше и больше, тем более что он не имел самого необходимого условия для довольства настоящим – личной свободы.
Он, как мы знаем, вернулся в свою глушь по доброй воле. Прежний надзор был с него снят, переписка его не контролировалась, а между тем симптомы опалы и ссылки продолжали существовать. Подобная непоследовательность, странная в другое время и при другом режиме, в то время не поражала, потому что проглядывала во всем.
Государь был недоволен Александром Васильевичем за его нежелание поступить на службу, и это должно было в чем-нибудь выразиться. В порыве раздражения на дядю государь приказал исключить из службы его племянника, своего флигель-адъютанта Андрея Горчакова. Хотя сердце у него скоро прошло, и на другой или на третий день он приказал снова зачислить Горчакова на службу, но случай этот считался дурным предзнаменованием. Были и другие признаки неудовольствия государева и опального характера суворовского пребывания в деревне.
Для примера приведем один.
В середине 1798 года майор Антоновский представил в петербургскую цензуру сочинение: «Опыт о генерале-фельдмаршале графе Суворове-Рымникском», совершенно безвредное и даже в полном смысле невинное.
Но так как на книжку набросилась бы читающая публика и в результате получилось бы увеличившееся сочувствие к отставному фельдмаршалу, то цензурного разрешения не последовало.
А между тем одновременно с этими угрожающими симптомами на Александра Васильевича сыпались и косвенные милости. Двадцатилетний его племянник произведен в полковники; другой, немного старше, был уже генерал-майор, наконец, Аркадий, сын Суворова, несмотря на свои 14 лет, пожалован в камергеры.
Но эти знаки монаршего благоволения еще более оттеняли противоположную сторону – они доставляли Александру Васильевичу временное утешение, но не облегчение.
Война надвигалась, но надежды на призыв не было никакой. В Суворове, между тем, не угас еще воинственный гениальный дух и часто-часто сердце его просилось назад, к своим витязям, к чудо-богатырям.
Незадолго до удаления Александра Васильевича с его блистательного поприща явился новый молодой полководец и в первый раз Европа услышала имя, дотоле неизвестное – Наполеона Бонапарта. Быстро распространилась слава его и Суворов в своем уединении следил за ним и, покачивая головой, говорил:
– Пора, пора унять его. А то наделает бед этот мальчик.
Легко понять состояние духа Александра Васильевича.
«Зима наградила меня чтением и унылой скукой», – пишет он в одном письме, относящемся к этому времени.
Его неуживчивый, крутой нрав прорывался все чаще, природная живость и веселость уступали место тоске, воспоминания приносили не утешение, а жгучую боль. Мелкие неудовольствия вырастали до крупных неприятностей, размолвки до вражды, изыскательность переходила в придирчивость.
Такое состояние требовало какого-нибудь исхода и под впечатлением ли посещения Лопухина, или его подсказало Александру Васильевичу собственное религиозное чувство, – он нашел этот исход.
Суворов был, как мы знаем, всегда и в одинаковой степени глубоко верующим человеком и исполнительным сыном церкви, но под старость сделался еще строже в обрядовой стороне и вообще во внешнем благопочитании, особенно в селе Кончанском. Видя для себя закрытой практическую военную деятельность, он решился уединиться в монастырь и отдаться Богу.
«Со стремлением спешу предстать чистою душою перед престолом Всевышнего», – пишет он в одном письме, а в другом говорит: «Усмотря приближение моей кончины, готовлюсь я в иноки».
Наконец, в декабре 1798 года, Александр Васильевич, написал государю прошение:
«Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердный государь! Всеподданнейший богомолец Божий раб Александр Суворов».
Неизвестно, какая судьба постигла это прошение. Развязка приближалась, только совсем другая.
Успех французского революционного оружия обеспокоил всех европейских государей. Император Павел послал в Австрию вспомогательный корпус под начальством генерала Розенберга, но Англия и Австрия обратились к русскому императору с просьбою – вверить начальство над союзными войсками Суворову, имя которого гремело в Европе. Его победы над турками и поляками – измаильский штурм, покорение Варшавы – были еще в свежей памяти народов.
6 февраля 1799 года прискакал в село Кончанское флигель-адъютант Толбухин и вручил Александру Васильевичу пакет с собственноручным высочайшим рескриптом.
Дрожащими руками распечатал Суворов этот пакет и прочел следующее:
«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак по сему и теперешних европейских обстоятельствах, долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело в команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену.
Павел».В пакете была, кроме рескрипта, следующая собственноручная записка императора:
«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватым Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы ваше время, а у меня удовольствия вас видеть. Пребываю к вам доброжелательным.
Павел».После всего описанного нами, не трудно понять, что Александр Васильевич был ошеломлен поворотом своей судьбы. Он немедленно отправил Толбухина назад с ответом, что исполняя монаршую волю, выезжает в Петербург, а сам принялся на скорую руку готовиться к отъезду.
7 февраля Александр Васильевич выехал из Кончанского и ехал не так, как прошлый раз, а на почтовых и очень быстро.
Как тогда, так и теперь государь ждал его нетерпеливо. Он не был совершенно свободен от сомнения – примет ли старый, больной и причудливый фельдмаршал посланное ему приглашение, после выраженного им год назад нежелания поступить на службу. Государь не совсем верно понимал Суворова и причину его отказа.
Александр Васильевич тогда не мог принять мирной службы на немыслимых, по его разумению, началах. Теперь он не мог отказаться от службы боевой, призвание к которой было его жизнью.
8 февраля возвратился в Петербург Толбухин.
Прочитав привезенное от Суворова письмо, государь приказал тотчас же отнести его к императрице и сказать австрийскому послу Кобенцелю, что Суворов приезжает и что венский двор может им располагать по желанию.

