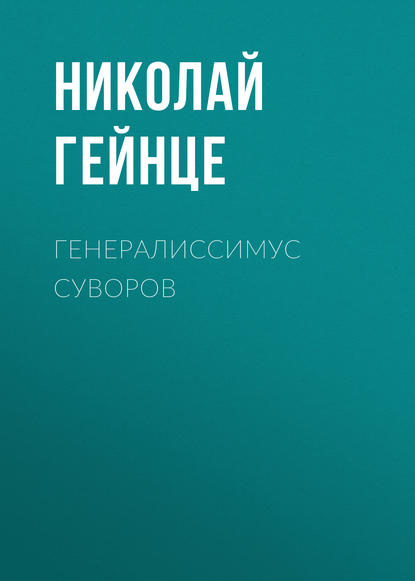 Полная версия
Полная версияГенералиссимус Суворов
В следующем письме он говорил:
«Милая моя Суворочка, письмо твое получил, ты меня так утешила, что я, по обычаю своему, от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учил такому красному слогу. Как бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! Как это ты растешь? Как увидимся, не забудь рассказать мне какую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах древности. Поклонись от меня сестрицам (монастыркам). Божье благословение с тобою».
К историческое теме, которую, как видно, затрагивала Суворочка, писавшая вообще складно, Александр Васильевич возвращается и в следующих письмах.
«Рад я с тобой говорить о старых и новых героях; лишь научи меня, чтобы я им последовал. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя в белом платье (старшем классе), носи на здоровье, расти велика. Уж теперь-то, Наташа, какой у них (у турок) по ночам вой: собачки воют волками, коровы охают, волки блеют, козы ревут. Они (турки) так около нас, очень много, на таких превеликих лодках, шесты большие к облакам, полотны на них на версту. На ином судне их больше, чем у вас в Смольном мух, – красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие. Ружья у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами».
Продолжая угощать свою Суворочку, или сестрицу, как он ее называл, подобными детскими гиперболами и описаниями, Александр Васильевич в 1788 году ей сообщает:
«В Ильин и на другой день мы были в refectoire с турками; ох, как мы потчевались! Играли, бросались свинцовым большим горохом да железными кеглями в твою голову величины; у нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые, рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть и голову. Кончилась иллюминацией, фейерверком. С festin турки ушли ой далеко, Богу молился по-своему и только; больше нет ничего. Прости, душа моя, Христос Спаситель с тобой».
В таком роде продолжал Суворов переписку с дочерью всю вторую турецкую войну, то по-русски, то по-французски, изредка писал и по-немецки.
После Рымникской победы, пожалованный в графы и Русской, и Священной Римской империи, Александр Васильевич с гордостью написал письмо к своей дочери, начав его словами: «Comtess de deux empires», говорит, что чуть не умер от удара, будучи осыпан милостями императрицы.
«Скажи Софье Ивановне и сестрицам, что у меня горячка в мозгу, да кто и вытерпит. Вот каков твой папенька за доброе сердце».
Ответных писем своей дочери он ждал с нетерпением.
«Мне очень тошно, я уже от тебя и не помню, когда писем-то видал. Мне теперь досуг; я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила, полетел бы в Смольный и тебя посмотреть, да крыльев нет. Куды право какая, еще тебя ждать 16 месяцев».
Ровно через месяц он ей пишет:
«Бог даст, пройдет 15 месяцев, то ты поедешь домой, а мне будет очень весело. Через год я буду в эти дни по арифметике считать. Дела наши приостановились, иначе я не читал бы твоих писем, ибо они мне бы помешали ради моей нежности к тебе».
Время это пролетело.
Александр Васильевич, после недружелюбного объяснения с Потемкиным в Яссах о награде за взятие Измаила, приехал в Петербург. Это было незадолго до выпуска дочери из Смольного монастыря.
Наконец 3 марта 1798 года выпуск состоялся. Графиня Наталья Александровна была пожалована во фрейлины и помещена во дворец около императрицы.
Этот знак особой милости и внимания Екатерины к ее знаменитому полководцу произвел на него совсем не то действие, на которое рассчитывали.
Под разными предлогами, которые сводились к желанию отца видеть около себя дочь после давней с ней разлуки, Наташа через некоторое время перешла в родительский дом.
Государыня, конечно, не стала настаивать на своем, уступила, но этот поступок Суворова не мог не затронуть ее щекотливость, тем более что задевал, вообще, придворные круги, выказывая к ним пренебрежение.
Поступить так бестактно, в ущерб своим собственным интересам, заставила Александра Васильевич сильная антипатия ко всему придворному, разжигаемая опасениями насчет дочери.
По своей натуре, по военно-солдатскому воспитанию, по вкусам, по внешним качествам, вообще по всему Суворов не был человеком придворным или даже способным приспособиться к требованиям придворного быта.
Пребывание дочери у отца продолжалось до отъезда последнего в Финляндию, когда волей-неволей надо было снова представить ее ко двору.
Снова началась переписка между отцом и дочерью. В ней целый ряд житейских наставлений.
«Будь непререкаемо верна великой монархине, – писал Александр Васильевич. – Я ее солдат, я умираю за отечество; чем выше возводит меня ее милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом приближаюсь я к могиле, совесть моя незапятнана, мне 60 лет, тело мое изувечено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства».
В другом письме он пишет:
«Помни, что дозволение свободно обращаться с собой порождает пренебрежение; берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегая людей, любящих блистать остроумием, по большей части это люди извращенных нравов. Будь сурова с мужчинами и говори с ними немного, а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием… Когда будешь в придворных собраниях и если случится, что тебя обступят старики, показывай вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай».
Время шло.
Александр Васильевич был все время вне Петербурга, а его дочь находилась на попечении его сестры Олешевой и родственника Хвостова.
Постоянная забота о Наташе и вечные за нее тревоги должны были наконец утомить Суворова и натолкнуть его на мысль о женихе, хотя недавно он назначил Хвостову термин в 2 или 3 года, раньше которого Наташа не должна выходить замуж.
В кандидатах в женихи не было недостатка.
Первым явился молодой сын графа Н. И. Салтыкова, управлявшего военным департаментом.
Графине Наталье Александровне в то время не было еще шестнадцати лет.
Молодой граф был неказист и подслеповат, и, несмотря на блестящие связи, которые бы приобрел Александр Васильевич, выдав замуж свою дочь за сына Н. И. Салтыкова, ему было отказано за молодостью невесты.
Следующим искателем руки был молодой князь Сергей Николаевич Долгорукий, но его ухаживание было встречено холодно.
Его сменил другой жених, и в конце 1791 года кандидатом явился царевич Мариамн Грузинский. По словам Суворова, – ведшего сватовство своей дочери письмами, – «царевич благонравен, но недостаток один – они дики».
Сватовство не состоялось.
За царевичем следует еще несколько женихов, и дело почти слаживается с молодым графом Эльмптом.
Графиня Наталья Александровна заявила, что она без отрицания исполнит волю отца купно с волею императрицы, то есть дала согласие не безусловное, так как волю государыни еще не знала.
Императрица на брак с иноверцем не соизволила.
Наконец, последним женихом, ставшим мужем графини Суворовой, был граф Николай Александрович Зубов. В пятницу, на Масленой 1795 года, совершилось торжественное обручение в Таврическом дворце.
Александр Васильевич по этому поводу писал: «Благословение Божие Наташе и здравие с графом Николаем Александровичем; айда, ну, дочка, как меня она утешила».
29 апреля, в отсутствие Суворова, все еще находившегося в Варшаве, они были обвенчаны.
VIII. Прием
В день отъезда Александра Васильевича из Варшавы морозило и дул сильный, резкий ветер. Стекла дорожного дормеза были, вследствие этого, все подняты, так как Суворов боялся за свои больные глаза.
Переехав Вислу и проезжая по Праге, он с нескрываемым удовольствием глядел по сторонам, замечая сглаживающие следы прежнего бедствия и множество новых зданий, воздвигнутых на месте пожарища.
– Слава Богу, кажется, забыто прошедшее, – сказал он самому себе, и лицо его озарилось радостной улыбкой.
Проехав Прагу, он обратил внимание на то место, где была после штурма разбита его палатка, в которой он принимал варшавских депутатов. Проезжая передовую линию укреплений, он проговорил сквозь зубы:
– Волчьи ямы еще не заросли, и колья в них живут до времени. Милостив Бог к России, разрушатся крамолы, и плевелы исчезнут.
Александр Васильевич истово перекрестился.
Скоро скрылась Варшава и Прага в мглистой дали. Потянулась белая однообразная дорога. Санный путь еще не совсем установился. Кочки и выбоины попадались на каждом шагу и награждали Суворова беспрерывными толчками. Не привыкший к продолжительной езде в крытом экипаже, он то и дело вскрикивал, но все же решил продолжать путь безостановочно, отдыхая только по ночам.
Впереди скакал курьером один из его адъютантов Тищенко, заготовлявший лошадей, ночлеги и прочее.
На втором ночлеге Тищенко приготовил и убрал для ночлега теплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая старуха.
Александр Васильевич приехал и, по своему обыкновению, разделся донага и приказал окатить себя холодной водой. Чтобы расправить одеревеневшие от долгого сидения члены, он, не одеваясь, стал прыгать по хате, напевая по-арабски разные изречения из Корана.
Проснувшаяся старуха выглянула из запечья, приняла Суворова за черта и закричала благим матом:
– Ратуйте, с нами небесная сила!
Александр Васильевич в свою очередь перепугался от неожиданности и также поднял крик:
– Ведьма, помилуй бог, ведьма!
Явились люди и вывели старуху, полумертвую от ужаса.
На всем пути готовились новому фельдмаршалу торжественные встречи, но он этого не хотел и разослал самые категорические просьбы и запрещения. Многие послушались, но не все. Александру Васильевичу пришлось прибегать к хитростям, чтобы избежать встреч.
Не доезжая Гродно, Александр Васильевич послал своего адъютанта просить губернатора князя Репнина отменить церемониал торжественной встречи, назначенный по Высочайшему повелению в Гродно, Митаве и Риге.
Князь отвечал, что не может не исполнить воли императрицы, и, приказав все приготовить, послал своего адъютанта вперед, для того чтобы тот немедленно уведомил его, как только покажется дорожный дормез фельдмаршала.
Адъютант не прождал и часу, как показалась простая кибитка, закрытая рогожей. С кучером сидел на козлах Прошка, камердинер Суворова.
– Скоро ли будет его сиятельство, граф Александр Васильевич? – спросил адъютант Прохора.
– Его сиятельство едет за нами.
И кибитка покатила далее. Едва только она исчезла из виду, как адъютант Суворова обратился к адъютанту Репнина и сказал ему:
– Теперь прошу вас довести до сведения князя, что фельдмаршал проехал.
– Когда? В чем?..
– Сейчас, в кибитке, которую вы видели.
– Не может быть!
– Можете сами удостовериться.
В это время приблизился к разговаривающим пустой дормез. Так ушел Александр Васильевич от церемониальной встречи в Гродно.
В Митаве и Риге, по убедительной просьбе фельдмаршала, коменданты отменили назначенный церемониал.
Суворов счастливо и без задержки доехал до Стрельни. Он прибыл туда в полночь, 3 января 1796 года.
Несмотря на совершенный им длинный, утомительный, без отдыха путь, Александр Васильевич тотчас по приезде начал отдавать распоряжения на завтрашний день.
– У тебя все в порядке? – спросил он своего камердинера Прошку.
– Все, Александр Васильевич, только надо купить ленту на косу да пудры.
– Ладно, купим. Эй, мальчик!
Мальчиками Суворов называл своих адъютантов. Тищенко немедленно явился.
– Скачи сейчас в Петербург, к графу Николаю Александровичу Зубову, и узнай у него обо всем.
– О чем же, ваше сиятельство?
– Спроси его только: «Что, как и где?» – да поезжай скорее и, кроме того, пошли купить там ленту на косу и пудры.
– Слушаю-с!..
Адъютант ускакал.
Граф Николай Александрович на предложенные вопросы отвечал:
– Ох, уж вы мне, все хорошо…
На другой день, 4 января, в Стрельню была выслана, по повелению императрицы, парадная придворная карета при эскорте из чинов конюшенного ведомства. Туда же выехал навстречу своему тестю и граф Николай Александрович Зубов. Несколько других генералов встретили его еще раньше.
Александр Васильевич облекся в фельдмаршальский мундир со всеми орденами, сел в присланный экипаж и отправился в Петербург.
Был сильный мороз, свыше 20 градусов. Несмотря на это, Суворов просидел весь переезд в одном мундире, с открытой головой, держа шляпу в руке. Его спутники, граф Зубов и генералы Исленьев и Арсеньев, поневоле следовали его примеру.
По прибытии в Петербург, к Зимнему дворцу, Александр Васильевич зашел предварительно к графу Платону Александровичу Зубову, чтобы обогреться самому и дать отойти от стужи полузамерзшим спутникам.
Исленьев и Арсеньев из субординации молчали, но граф Николай Александрович сказал с неудовольствием одному из свиты Суворова:
– Твой молодец нас всех заморозил.
Из покоев Платона Зубова отправились в приемные комнаты императрицы.
Екатерина приказала узнать все привычки Александра Васильевича и оказывать особое внимание даже к его причудам. Узнав, что ее знаменитый полководец враг роскоши вообще, а в особенности зеркал, государыня приказала вынести из покоев, которые он должен был проходить, всю дорогую мебель и завесить зеркала и картины.
Прием Суворову был оказан самый блестящий. Императрица после приветствия заговорила с ним о предполагавшейся тогда персидской экспедиции и предложила ему главное начальствование.
– Помилуй бог, матушка-царица, так сразу! – воскликнул Александр Васильевич.
– То есть как сразу? – с недоумением спросила государыня.
– Это дело надо обмозговать, мудреное дело.
– Так обмозгуйте, – улыбнулась Екатерина и перевела разговор на другую тему.
На прощанье императрица взяла со стола драгоценную табакерку с изображением Александра Македонского и, вручая ее Суворову, сказала:
– Примите от меня этот подарок. Никому так не прилично иметь портрет тезки своего, как вам. Вы велики, как он.
Суворов упал к ногам государыни. Екатерина подняла его, а он со слезами благодарности облобызал ее руку.
Александру Васильевичу и его свите назначен был для жительства Таврический дворец, куда он тотчас же по окончании аудиенции и отправился. Велено было заранее разузнать все привычки Суворова и сообразно с ними устроить его домашний обиход.
Приехав в Таврический дворец, Александр Васильевич вприпрыжку пробежал по комнатам вплоть до спальни, не заметив, что его везде встречала придворная прислуга.
В небольшой спальне с диваном и несколькими креслами уже была готова пышная постель из душистого сена и ярко горел камин. В соседней комнате стояла гранитная ваза, наполненная невской водой, с серебряным тазом и ковшом для окачивания и прочими принадлежностями.
Суворов разделся, сел у камина и приказал подать варенья. Он был очень оживлен, необыкновенно весел и особенно красноречив; говорил с воодушевлением о милостивом приеме императрицы, но в конце заметил:
– Государыне, расцветили, помилуй бог как красно, азиатские лавры!
На другой день начались визиты. Приняты были, однако, весьма немногие, и в числе их Державин и Платон Зубов.
Державина Александр Васильевич встретил дружески, без всяких церемоний и оставил обедать. Так же бесцеремонно обошелся он и с Платоном Зубовым, но в другом смысле.
Накануне, когда Суворов приехал в Зимний дворец из Стрельни, граф Зубов встретил его не в полной форме, а в обыкновенном ежедневном костюме, что было принято за неуважение и пренебрежение. Теперь Александр Васильевич ему отплатил, приняв временщика в дверях своей спальни, в одном ночном белье.
Живя в Петербурге, Суворов был предметов общего любопытства и внимания. Он вошел на первое время в моду: о нем говорили, спорили, ему прислуживались и угождали, так что зависть и недоброжелательство до поры спрятались и замолкли…
Он вел прежнюю жизнь, с некоторыми уступками столичным условиям, и обедал уже не в 8 часов утра, а в 10 или 11, причем всегда бывали у него гости.
Обед состоял из четырех или пяти кушаньев, которые обыкновенно подавались в маленьких горшочках. В скоромные дни эти кушанья были: варенная с разными пряностями говядина, под названием «тушеной», щи из свежей или кислой капусты, иногда калмыцкая похлебка – башбармак, пельмени, каша из разных круп и жаркое из дичи или телятины. Весной, даже в скоромные дни, Александр Васильевич любил разварную щуку, под названием «щука с голубым пером». В постные дни: белые грибы, различно приготовленные, пироги с грибами, иногда щука с хреном.
Во дворце у государыни он бывал редко, в особенности избегал парадных обедов.
Узнав, что он ехал из Стрельни в одном мундире, Екатерина подарила ему соболью шубу, крытую зеленым бархатом, но Суворов брал ее с собой, только едучи во дворец, да и то держал на коленях и надевал, лишь выходя из кареты.
Обращение Александра Васильевича с императрицей было для придворных сфер необычайное, режущее глаза. Однажды на придворном балу государыня, обходя гостей и беседуя с ими, приблизилась к Суворову.
– Чем потчевать дорогого гостя? – спросила она.
– Благослови, царица, водочкой!.. – сказал, кланяясь, Суворов.
– А что скажут красавицы-фрейлины, которые будут с вами разговаривать? – заметила Екатерина.
– Они почувствуют, что с ними говорит солдат, – простодушно отвечал Александр Васильевич.
Императрица собственноручно подала ему рюмку тминной, его любимой.
Цесаревич Павел Петрович как-то пожелал его видеть. Суворов вошел к нему в кабинет и начал проказничать. Цесаревич этого терпеть не мог и тотчас остановил баловника, сказав ему:
– Мы и без этого понимаем друг друга.
Александр Васильевич сделался серьезен и по окончании делового разговора, выйдя из кабинета, побежал вприпрыжку по комнате, напевая:
– Prince adorable, despote implacable…
Это было, конечно, передано цесаревичу.
Принимая визиты от именитых и чиновных лиц, Суворов по-своему оказывал им разную степень внимания и уважения. Увидев в окно подъехавшую карету и узнав сидящее в ней лицо, он выскочил однажды из-за стола, сбежал к подъезду, вскочил в карету, когда лакей отворил дверцу, и просидел в ней несколько минут, беседуя с гостем, а затем поблагодарил его за честь, распрощался и ушел.
В другой раз, тоже во время обеда, при визите другого лица, Александр Васильевич не тронулся с места, приказав поставить около себя стул для вошедшего гостя.
– Вам еще рано кушать, прошу посидеть! – сказал он ему.
Начался разговор. Когда же гость откланялся, то Суворов не встал его проводить.
Его частым и любимым гостем продолжал быть Гавриил Романович Державин. Раз за обедом разговор зашел о смерти.
– Моя близка, ой как близка… – сказал Александр Васильевич и, обратясь к Державину, спросил его: – Какую вы мне напишете эпитафию?
– Я не переживу вас, ваше сиятельство.
– Ну, а если… – добавил Суворов.
– Какая же вам нужна эпитафия!.. Я написал бы просто: «Здесь лежит Суворов».
– Помилуй бог, как хорошо!.. – воскликнул Александр Васильевич. – Помилуй бог, хорошо.
Он бросился обнимать и целовать певца Фелицы.
– Помилуй бог, как я люблю поэзию, тут язык богов… – сказал Суворов.
– Да вы сами поэт… – заметил Державин, намекая на то, что Александр Васильевич писал стихи.
– Нет, – ответил тот, – поэзия – это вдохновение, а я складываю только вирши.
IX. Ссылка
В Петербурге Александр Васильевич пробыл недолго. Через несколько недель ему нашлось дело.
Императрица предложила ему съездить в Финляндию и осмотреть пограничные укрепления. Суворов с радостью согласился на это предложение.
Он много поработал над этим делом, в 1791 и 1792 годах, окончив главное и наметив подробности остальных работ, которые после него и продолжались по его мысли и планам. Он ехал смотреть на свое детище, и Екатерина понимала, что никто лучше его не мог оценить сделанное.
Он отсутствовал недолго, в половине декабря он уехал и вернулся к Рождеству, совершенно довольный всем найденным.
Вскоре по возвращении в Петербург он снова его оставил и отправился в Тульчин, где должен был сформировать армию из 100 000 человек.
Местечко Тульчин принадлежало графу Потоцкому. Прибыв на место своего назначения, фельдмаршал немедленно занялся приведением в исполнение возложенного на него поручения. Он поместился в нижнем этаже дома, принадлежащего графу Потоцкому. Он снова весь окунулся в привычную для него деятельность и ежедневно учил солдат по частям.
По субботам было общее учение и потом развод. Перед разводом фельдмаршал говорил солдатам поученья, оканчивавшиеся большею частью следующими словами:
– Безбожные, окаянные французишки убили своего царя. Их надобно проучить. Но они мастера драться, а потому и вам, ребята, должно хорошенько поучиться, чтобы не ударить лицом в грязь!..
Интересны, вообще, взгляды Александра Васильевича на происходившее в то время во Франции, высказанные им еще до отъезда из Петербурга.
Раз у него собралось много знатных эмигрантов, которые взапуски говорили о своих пожертвованиях в пользу несчастного короля. Суворов прослезился при воспоминании о добродетельном короле, падшем от злодейской руки своих подданных, и сказал:
– Жаль, что во Франции не было дворянства. Этот щит престола защитил в стрелецкий бунт нашего помазанника Божия.
Эмигранты закусили губы и замолчали.
В другой раз одному иностранцу, горячему стороннику французской революции, Александр Васильевич сказал:
– Покажите мне хоть одного француза, которого бы революция сделала счастливым? При споре о том, какой образ правления лучше, надобно помнить, что руль нужен, а важнее рука, которая им управляет.
Вследствие этого Суворов считал войну с французами священной обязанностью всякого монархического правительства и с радостной надеждой ожидал окончания переговоров с Англией и выступления в поход.
Переговоры окончились. Начались спешные приготовления.
Вдруг…
Наступило 6 ноября 1796 года. Императрица Екатерина скончалась. На престол вступил ее сын – Павел Петрович. Это известие как громом поразило всю Россию и распространилось по ней с быстротой электрической искры.
На Александра Васильевича оно произвело прямо ошеломляющее впечатление. Получил он роковое известие в Тульчине 13 ноября. Во все время панихиды по в бозе почившей государыне он стоял на коленях и горько-горько плакал.
Кончина Екатерины II произвела не на одного Александра Васильевича потрясающее впечатление. В гвардии плакали. Рыдания раздавались и в публике по церквам.
В Петербурге дрожь всех пронимала, «и не от стужи, – замечает современник, – а в смысле эпидемии».
Наступающее новое время называли торжественно и громогласно «возрождением»; в приятельской беседе осторожно, вполголоса – «царством власти, силы и страха»; меж четырех глаз – «затмением света».
То же самое было всюду, хотя и не в такой степени, – отдаленность в этом случае много значила.
Не все имели пессимистический взгляд на будущее, и если мало насчитывалось поклонников Павла Петровича, то гораздо больше критиков Екатерины.
В Петербурге за Павла было ничтожное число гатчинцев.
В Москве, этом, со времени Петра Великого, приюте недовольных настоящим положением, «умные люди» перешептывались, что «в последние годы, от оскудения бдительности, темные пятна везде пробивались через мерцание славы». В простом народе перемена царствования произвела радость, потому что время Екатерины было для него чрезвычайно тяжело.
С первых же дней нового царствования произошла перемена внутренней и внешней политики. Прекращена война с Персией, а также оставлены приготовления к войне против Франции.
Для Александра Васильевича это было жестоким ударом. Он не переставал оплакивать кончину великой Екатерины, говоря всем:
– Без матушки-царицы не видать бы мне Кинбурна, Рымника, Измаила и Варшавы.
Лишенный надежды на близкую войну, он был постоянно не в духе. Преобразования по военной части, начатые тотчас же по воцарении Павла Петровича, нашли в нем открытого и неосторожного порицателя.
– Русские прусских всегда бивали, – говорил он, – что же тут перенять… Я лучше прусского короля, я, милостью Божиею, баталии не проигрывал… Солдаты невеселы, унылы, разводы скучны, шаг уменьшают в ¾ и так на неприятеля, вместо 40–30 верст… Я пахарь в Кобрине лучше, нежели только инспектор, каковым и был подполковником.
Получив в войска палочки для измерения кос, Суворов отозвался:
– Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, я не немец – природный русак.
Слова эти доходили до государя. Нашлось немало людей, которые обрадовались случаю погубить «упрямого чудака», и действовали, как мы увидим, не без успеха.
Император Павел Петрович разгневался на то, что фельдмаршал медлил с приведением в исполнение некоторых новых его постановлений.

