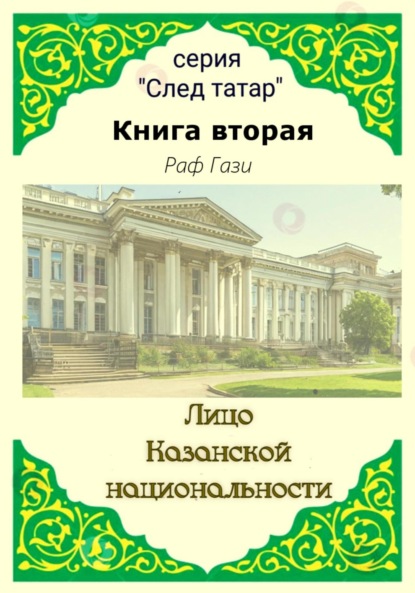
Полная версия:
Лицо Казанской национальности. Книга вторая
А тут к столице подошли войска Батыя. Осада Биляра длилась 45 дней. В кровавой мясорубке погибла жена Кул Гали. Иногда говорят, что та же участь постигла и самого муллу. Но в летописях приводится другая версия. "Победители" умерщвляли одного пленного за другим, пока не дошла очередь и до Кул Гали. И вот уже палач занес над ним свой острый меч, как кто-то крикнул из толпы:
– Его нельзя казнить – ведь это верховный кахин, аулия. Его гибель принесет вам несчастье.
Суеверный Батый испугался и отпустил муллу с миром. Но тот не уходил, беспрестанно читая молитву, чтобы ободрить ею своих обреченных на смерть товарищей. С лобного места Кул Гали увели силой.
Войска Батыя пошли на Запад завоевывать новые страны, стремясь дойти до "последнего моря", а несчастный мула с великого горя слег в постель. Больше он никогда не поднялся. Его хотели перевести в Нур-Сувар, но довезли лишь бездыханный труп, на груди которого покоилась древняя летопись "Хон Китабы" (то есть "Книга о гунах"). Это случилось в начале 40-х годов XIII столетия.
Конечно, это всего лишь легенды, и сегодня невозможно доказать их подлинность. Но легенды не рождаются на пустом месте. Они лишний раз подтверждают, что современные татары имеют древнюю, сложную, богатую историю и культуру, уходящую корнями вглубь веков.
Улуг Мохаммад – основатель Казанского ханства
Все империи рано или поздно разрушаются.
Как карточный домик, рассыпались необъятные владения Александра Македонского, растаяла, как дым, могучая Персидская держава, рухнул "вечный Рим". Пришло время – раскололась и Золотая Орда. Выкарабкиваясь из-под ее обломков, формировались новые самостоятельные государства. Наиболее сильными из них оказались три: Московское княжество, Крымское и Казанское ханства. Но вот причуды истории: каждое из этих молодых государств, не успев опериться и вкусить все сладости суверенитета, стало думать не о том, как лучше обустроить свою внутреннюю жизнь, а нацелилось на захват оставшегося почти бесхозным имперского наследства.
Возможно, прав историк Лев Гумилев, говоря, что сам географический ландшафт евразийских просторов наталкивал на создание единой централизованной державы. Но где утвердится ее столица, после того как захиревший Сарай окончательно сойдет с политической арены? В Москве, Бахчисарае, Казани? Чтобы ответить на этот узловой вопрос истории, понадобилось около 100 лет.
Поначалу фортуна улыбалась ордынскому хану Улуг Мохаммаду. 100-процентный чингизид, отпрыск знатного хана, внук знаменитого Тохтамыша привык мыслить вселенскими масштабами, удел провинциального казанского бека его не устраивал. Возрождение Золотой Орды с центром в Казани – вот уровень притязаний властолюбивого ордынца. Но основной соперник – московский князь Василий, которому Улуг Мохаммад в бытность свою ханом в Сарае самолично вручал ярлык на княжение, – тоже был не лыком шит. Если с сарайскими ханами еще считался, то казанских, считая себе ровней, пытался посылать куда подальше. Только после нескольких набегов на Москву и захвата в плен Василия "выход" (дань) московиты стали давать не в Сарай, а в Казань. Для того чтобы выкупить московского князя из плена, понадобилось "от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов пол-30 тысящ"…
Для сбора дани (на самом деле, как сегодня сказали бы "федерального налога") в города московитов поехали казанские чиновники. На ярмарках все громче стала раздаваться татарская речь, над православными кварталами возвысились минареты мечетей, с которых муэдзины выкрикивали звучные азаны. Впрочем, они и раньше здесь призывали правоверных к молитве. Московский посол не сильно лукавил в Стамбуле на приеме у турецкого паши, когда заявлял: "Мой государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его царь Саин-Булат господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Суржике, князья ногайские в Романове: все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях…"
Дипломаты, как известно, любую ситуацию могут повернуть выгодной стороной, но оппозиции московского князя во главе с Дмитрием Шемякой она сильно не нравилась: "Зачем привел татар на нашу землю и города с волостями отдал им в кормление?" Только вопросами дело, понятно, не кончилось – Василия низложили и выкололи глаза, после чего он стал зваться не иначе, как Темный.
Но друзья-татары – царевичи Касим и Якуб – в беде не оставили, помогли вернуть московский престол. Из всех историков, пожалуй, Михаил Худяков наиболее щедр на комплименты в адрес Улуг Мухаммада: "Большой ум, громадная энергия, колоссальная предприимчивость" – это еще скромная характеристика. По мнению Худякова, "план основания Казанского ханства можно назвать гениальным".
И еще: "Личность Улуг Мохаммада, несмотря на скудость сохранившихся о нем известий, рисуется в качестве весьма выдающейся. Царствование его в Сарае было блестящим, и суверенитет над Россией был прочным и непрерывным. Принужденный оставить Сарай, он отправился в Крым и основал там независимое государство… Вынужденный вторично покинуть престол, Улуг Мохаммад не пал духом и вступил в пределы России. Одержав победу у Белева, он решил по примеру Крымского ханства отторгнуть от Сарая все Среднее Поволжье и основать там самостоятельное государство. Этот грандиозный замысел был выполнен им чрезвычайно успешно… Мало того, ему удалось в пределах России создать самостоятельное государство – ханство Касимовское".
Выдающейся исторической личностью Улуг Мохаммада считал и знаменитый татарский писатель Гаяз Исхакый. Одна из последних его книг, написанных в эмиграции в Турции, так и называется "Олуг Мохаммад". Вот финал этой исторической пьесы:
«Василий (поднимает чашку с кумысом). За ваше здоровье, ваше ханское величество!
Хан. За здоровье страны! (Пьет кумыс.)
На костылях входит дервиш Абульмехсин.
Абульмехсин (говорит дрожащим голосом.) Война закончилась, а мне стать шахидом так и не пришлось. И что теперь делать?
Олуг Мохаммад. Мы назначим тебя главой веры к чувашам и черемисам, чтобы занялся их просвещением. Ты не умрешь, будешь множить число мусульман! (Якубу) Отвезешь великого князя Василия в Москву и посадишь на трон. Да здравствуют мир и согласие»!
Если абстрагироваться от худяковской патетики и обратить внимание на экономику Казани того времени, надо признать, что она была на подъеме, и не только благодаря московскому "выходу". Бурно развивались ремесла, в том числе металлургия: достаточно сказать, что первые пушки отливались в Казани, и именно отсюда они попали в Москву, а не из Европы, как думали раньше. Казань превратилась в крупный центр международной торговли, на "гостином острове", как раньше в Болгаре на Ага-Базаре, ежегодно проходили знаменитые "Казанские ярмарки" (позже подобные "всероссийские торжища" будут переведены в Нижний Новгород, или Ибрагимов, как назывался сей град при основании). Но кончилось правление Улуг Мохаммада трагично. Его убили (правда, некоторые исследователи, в том числе М.Худяков, утверждают, что хан умер своей смертью, от старости).
Есть несколько версий убийства Улуг Мохаммада, назовем две. По Л.Гумилеву, Улуг Мохаммада убил его сын Махмутек, и именно сын, а не отец основал Казанское ханство в 1445 году. Его брат Касим взял на себя бремя мести за отца, став верным союзником московского князя Василия Темного, который выделил ему надел, получивший название Касимовского княжества.
Согласно другой версии – Ф.Нурутдинова – Улуг Мохаммад пал от меча своего брата Кара-Якуба. Один из сыновей Улуг Мохаммада, а именно Касим, встал на сторону дяди. И не Касим, а Махмутек поклялся отомстить за убиенного отца. Так Касим, получивший Касимовское княжество, и Махмутек, правивший в Казани, превратились в непримиримых врагов. Последователей первого стали называть "касимовские татары", последователей второго – "казанские татары".
Москва умело играла на этой вражде, поддерживая партию Касима. Чем это в конечном счете закончилось, хорошо известно: Иван Грозный в 1552 году взял Казань. Некоторые исследователи, например С.Алишев, говорят о том, что, несмотря на сильную децентрализацию, Булгарский улус в рассматриваемый нами период еще продолжал существовать. Помимо ослабевшего собственно Булгарского бекства и набиравшего силу "Казанского царства", в него входили Жукотинское (возле современного Чистополя) и Кирменчукское (возле Мамадыша) княжества, а также бекства Чаллы, Алабуга и другие.
По одной из версии, Махмутек был не самостоятельной фигурой, а лишь ставленником местных беков, и занимал скромный пост улугбека (губернатора) Казани. За ним и его потомками за верное служение Казани этот пост был закреплен якобы навечно. Так завершилась династия прежних ханов в Казани и началась династия золотоордынская…
В этой междоусобице Казань прозевала главное: инициатива медленно, но верно переходила к Москве. Любопытно, как трактует ее возвышение один из авторов евразийской идеи – князь Николай Трубецкой: по его мнению, просто произошла "замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву".
С такой оценкой вполне солидарен и Лев.Гумилев.
"Бермудский" треугольник Нурсултан: Москва-Бахчисарай-Казань
Так получилось, что эта женщина оказалась в эпицентре политической жизни Восточной Европы конца XV-начала XVI веков. Тогда шла упорная борьба за лидерство между Московским княжеством, Казанским и Крымским ханствами, в которой политические интересы тесно переплелись с личными. Судьбе было угодно разбросать близких Нурсултан именно в этом треугольнике: муж Менгли-Гирей правил в Бахчисарае, старший сын Мухаммад-Эмин – в Казани, младший Абдул-Латиф – в Звенигороде. Сердце верной жены и любящей матери разрывалось на три части…
Нурсултан была дочерью знатного ногайского бека Тимура. Казанские ханы часто находили себе жен в степных юртах. Так было до Нурсултан и после нее – о судьбе "крестьянской царицы" Сююмбике нам уже представился случай рассказать в первой книге «Кругом одни татары» серии «След татар».
Первым мужем Нурсултан был хан Халиль. О нем почти ничего не известно, правил он недолго и умер в 1467 году, не оставив наследства. Халиль и вошел-то в историю лишь благодаря шумной известности своей жены, которая пережила его почти на полвека. Некоторые исследователи даже сомневаются, а существовал ли вообще такой хан…
Тогда согласно мусульманским и тюркским законам на вдове умершего должен был жениться его брат. Так было заведено и у древних бедуинов, от которых и пришел на Волгу ислам. Обычай преследовал гуманные цели: женщина без поддержки мужчины в старину была обречена на голодную смерть. Шариат в Казанском ханстве соблюдался неукоснительно, жизнь его граждан, начиная от рядовых крестьян и кончая царствующей семьей, была строго регламентирована. Вопрос об устройстве дальнейшей судьбы Нурсултан после смерти ее мужа не возникал – у Халиля был брат Ибрагим, который вместе с ханством унаследовал и жену бывшего правителя. Ибрагим правил 12 лет и тоже умер. Вот тут-то и разгорелись страсти.
Кому достанется отцовский престол?
Дело в том, что у Ибрагима от первого брака с Фатимой был сын Али. На него поставила ногайская группировка, ориентированная на торговые связи со Средней Азией. Партии, сформировавшейся вокруг Мухаммад-Эмина – старшего, десятилетнего сына Нурсултан, – не оставалось ничего другого, как искать поддержку на Западе, в Москве. Тем паче, что Мухаммад-Эмин вскоре был определен на временное жительство в Московское княжество, где получил в управление город Коширу.
Великий князь Московии Иван III вел сложную политическую игру. Поговаривают, что именно он стал тем закулисным "сводником", который устроил брак Нурсултан с крымским ханом Менгли-Гиреем. Москве такой брак был весьма выгоден. Учитывая, что сначала старший, а потом младший сын новой жены Менгли-Гирея жил под присмотром великого князя, появлялась надежда, что с сильным и воинственным Крымом удастся поддерживать мирные отношения. Вся кипучая энергия Нурсултан впоследствии была направлена на то, чтобы вызволить Абдул-Латифа из затянувшейся на долгие годы почетной "московской командировки". Это обстоятельство стало главным козырем Ивана III и сменившего его великого князя Василия в развитии дипломатических отношений в треугольнике Москва – Казань – Бахчисарай.
В Казани борьба за ханский престол шла с переменным успехом, в конце концов победила партия Мухаммад-Эмина, что опять было на руку Москве. Если время правления Ибрагима отмечено ожесточенными войнами, то при его сыне наступил мир. С 1487 по 1496 год не зафиксировано ни одной военной стычки между Казанским ханством и Московским княжеством, которое постепенно превращалось в самостоятельное независимое государство. Казанское правительство официально признало равенство обеих сторон. Оба государя называли друг друга братьями. "Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, брату моему Магомет-Аминь челом бьет", – вез гонец депешу в Москву. Оттуда следовал ответ: "Магомет-Аминю, царю, брату моему, князь великий Иван челом бьет".
В отношениях между соперничавшими державами установилось хрупкое равновесие. Наступил узловой момент истории, когда определялся главный вектор ее дальнейшего движения. История не терпит сослагательного наклонения, но народам Евразии, кажется, был предоставлен шанс выбрать "европейский" путь и построить на обломках Золотой Орды ряд самостоятельных государств подобно тому, как на развалинах Римской империи возникла современная Европа, где даже крошечные территории имеют суверенный статус. Но Москва заразилась от Казани "имперским вирусом", который проник в дворцовые покои великих князей. Не сумев избавиться от комплекса "ханской плети", идеологи-монахи (служившие не Отчизне, а заграничным хозяевам), стали нашептывать на ушко своим правителям ущербную, в общем-то, идейку об особой миссии Москвы в определении судеб человечества, – как третьем Риме. В ход были пущены византийская лесть и византийская хитрость. А вслед за этими сестрами приходит Дьявол и, как всегда, обманув, вместо "Царства Божьего на Земле" начинает строить "тюрьму народов"…
Дружескую переписку с Москвой вел не только Мухаммад-Эмин, но и его мать – Нурсултан. Ее главной заботой стало вызволение из "братских" объятий великого князя младшего сына Абдул-Латифа. Хотя ему был дан в управлении город Звенигород, по сути, он оставался заложником, что сковывало действия Казани и Бахчисарая. Отчим Менгли-Гирей, как описывают хронисты, особых чувств к своим пасынкам не испытывал и ограничивался посланием время от времени грозно-ласковых депеш в Москву, к которым там привыкли и ограничивались уклончивыми отписками. Отчаявшись, Нурсултан предприняла новый ход.
Как известно, каждый правоверный мусульманин хоть раз в своей жизни должен совершить хадж в Мекку, и женщину в этом трудном и опасном путешествии должен сопровождать близкий родственник. Мы не знаем, какие истинные мотивы двигали Нурсултан, но, предпринимая хадж, она надеялась, что христианское воспитание великого князя не позволит ему препятствовать исполнить матери вместе с сыном свой религиозный долг. Она ошиблась, Абдул-Латифа не отпустили. Сердце матери разрывалось от горя. Если "крестьянская царица" Сююмбике осталась в памяти народной как любящая жена, сохранявшая верность мужу даже после его смерти, то Нурсултан, прежде всего – как любящая мать. Однако из этого "бермудского" треугольника Москва – Бахчисарай – Казань не было выхода. Впрочем, если гора не идет к Магомету, то…
Да, Нурсултан сама поехала к своим сыновьям. 21 июля 1510 года ее торжественно встречали в Москве, где она пробыла около месяца. Затем почетный караул во главе с Иваном Кобяком (из крещенных татар) сопроводил высокую гостью в Казань – город ее юности, где родились любимые сыновья и дочь. Погостив у старшего сына 9 месяцев, Нурсултан снова поехала к младшему в Москву, где задержалась почти на полгода. И только 5 декабря 1511 года по санному пути в сопровождении князя Тучкова вернулась в Крым. Поездка носила не только личный, но и дипломатический характер.
Любящее сердце матери способно растопить и камень. Хотя политика не терпит сантиментов, но в данном случае можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря Нурсултан в отношениях трех враждующих государств наметилось заметное потепление. Между Казанью и Москвой был даже заключен "вечный мир".
Увы, вечного на этой грешной земле ничего не бывает. Подобное мирное соглашение на вечные времена уже пытались заключить несколько веков прежде описываемых здесь событий булгары с русичами. После краткого перемирия войны возобновились с новой силой.
Так произошло и на этот раз, когда на московском престоле воцарился Иван IV, которого не зря назвали Грозным.
Мухаммедьяр: «Главный враг – внутри ханского двора»
Казань издревле была обителью для ученых и поэтов. Библиотека университета "Мухаммад Аламия" гостеприимно раскрывала свои книжные сокровища перед алчущими знаний, а трибуной для странствующих поэтов-дервишей служили базарные площади.
Казанские ханы, как истинные восточные правители, любили услаждать свой слух медоречивыми голосами придворных поэтов. А Сафа-Гирей и сам, отдыхая от ханских забот, баловался стишками, выдавая иногда неожиданные рифмы. Еще при дворе первого казанского хана Улуг Мохаммада славился необыкновенным талантом стихотворец-акын Асан Кайгу. После смерти хозяина он вернулся в степь – песни Кайгу были необычайно популярны среди ногайцев и других тюркских кочевых племен.
"Удивительно, этот город полон поэтами малыми и великими", – сказал о Казани известный путешественник.
Но по-настоящему великих мастеров слова было, конечно, немного. Сын Махмуда-ходжи Мухаммедьяр – один из них, можно сказать, даже первый среди них. Многие исследователи относят творчество Мухаммедьяра к суфизму, считая его последователем величайшего классика средневековой тюркской поэзии Алишера Навои и философа-суфия Абдрахмана Джами.
Суфизм – сложное явление, характерное не только для искусства и философии, но и для других сфер жизни, в том числе бытовых отношений.
Суфизм – это жизненная позиция и определенный настрой, отличающийся внутренней оппозицией к существующему порядку вещей. Обычно он возникает в такие периоды истории и в таком обществе, где нельзя открыто и прямо заявлять о своих убеждениях, – для этого используются различные притчи, аллегории, эзопов язык…
Высказываются предположения, что Мухаммедьяр был членом тайного суфийского ордена. Это кажется спорным, поскольку поэт вопреки созерцательно-отстраненной философии суфиев принимал самое активное участие в политической жизни Казанского ханства первой половины XVI века. К тому же его творчество открыто и доступно, Мухаммедьяр говорил о простых и понятных всем вещах. Например, о "священном газавате" – необходимости защиты веры и Отечества. Хотя в главных его произведениях "Тухфа-и мардан" ("Дары мужей", 1540 г.) и "Нуры содур" ("Лучи сердец", 1542 г.) проглядывают и суфийские мотивы, которые, впрочем, при более широкой трактовке коранических заповедей нельзя считать противоречащими канонам традиционного ислама.
Любимая притча поэта о драгоценной жемчужине, найденной в желудке рыбы, повторяется им в разных вариациях несколько раз. Суть истории такова. Простой носильщик дров, не раздумывая, отдает последние две таньги бедному юноше, которого избивает жестокий хозяин за какие-то долги. В результате бедняга спасен, но дома дети ложатся спать голодными.
Однако есть в мире Высшая справедливость!
На следующий день носильщик обменивает на том же базаре целую вязанку дров на тощую рыбешку, на которую и смотреть-то никто не хочет. Богоугодный поступок обязательно должен быть вознагражден – носильщик распарывает брюхо рыбе и находит сверкающую жемчужину. Семья благородного бедняка спасена.
Рассказ имеет и скрытый подтекст, доступный лишь посвященным в тайный язык восточных образов. Это не просто жемчужина, а некий философский камень, на поиск которого иные мудрецы безрезультатно тратят всю жизнь. Чистой воды суфизм!
Но, с другой стороны, притча утверждает общечеловеческие ценности, под коими подпишется не только правоверный хазрет, но и поп, и раввин, и буддийский монах, и даже атеист, придерживающийся широких гуманистических взглядов.
Философский поиск Мухаммедьяра направлен на открытие универсального ключа, с помощью которого можно разрешить все жизненные проблемы. Это не всеобщая Любовь, как у суфиев, в чем они схожи с христианами, а идея Справедливости. Все люди – знатный эмир и простой носильщик – равны перед Богом, и между ними должны быть справедливые, равноправные отношения. Только Справедливость может установить мир и гармонию в семье, обществе, государстве. "Лучше один час совершать справедливость, Чем молиться шестьдесят лет", – писал поэт.
Несмотря на то, что Мухаммедьяр хорошо знал жизнь ханского двора и его самого хорошо знали при дворе, он не был придворным поэтом. Главные герои его произведений – простые люди, зарабатывающие себе на хлеб собственным трудом.
Поэт причислял к ним и себя, говоря: "Есть в этом городе бедняга скромный…"
Именно к этим людям было обращено и его творчество:
Хочу достичь я в славе торжества,
Чтоб возлюбил народ мои слова.
Поэт часто использовал художественные образы и метафоры классической восточной поэзии, создавая своеобразную "базу данных" для будущих мастеров слова.
Так, несколько веков спустя другой знаменитый татарский поэт Габдулла Тукай в "Разбитой надежде" использовал обкатанный Мухаммедьяром мыслеобраз "Тело – клетка для души".
Мухаммедьяр жил и творил в сложную эпоху кризиса Казанского ханства, когда резко обострились отношения между Казанью и Москвой. Поэт кожей чувствовал приближение неминуемого краха. Но главную угрозу видел не во внешнем враге, а внутреннем – ханский двор, как ржа, разъедали междоусобные распри, зависть, лесть, безудержное стремление к власти и богатству. И все это на фоне удручающей нищеты простого люда, задавленного непосильными налогами.
Справедливость была попрана, нравственные устои расшатаны.
Как человек верующий, Мухаммедьяр не мог не знать грозного айята священного Корана: "И заменит вас другим народом". А как историк (поэт написал "Историю Казани"), он видел, что это пророчество всегда сбывается. Когда в народе слабеет вера в Творца и нарушаются Божьи заповеди, его ждет наказание, а возможно, и гибель. За примерами далеко ходить было не нужно. Куда делась великая Волжская Булгария? А непобедимая Золотая Орда?.. Их, так же как в свое время могущественный Арабский халифат, сгубили распри, роскошь, интриги, забвение моральных принципов, установленных на Земле Всевышним.
Мухаммедьяр предостерегал:
Не внешний враг земле погибель шлет:
От гнета мук, от них улус падет.
Кяфир грехом себе приносит вред,
А гнет страну ведет в пучину бед.
Но когда правители слушали поэтов!..
Впрочем, Мухаммедьяр и сам мог стать правителем. Сохранилась его родословная – "Шеджере Шаеха Дирбеша".
Родился Мухаммедьяр примерно в 1497 году в семье ходжи Махмуда, который был внуком одного из первых казанских ханов. А его мать – Саулия-бикэ – приходилась сестрой влиятельному булгарскому эмиру Саин-Юсуфу. Мухаммедьяр занимал в ханской администрации ответственный пост хранителя гробницы известного государственного деятеля и поэта Мухаммад-Эмина, что могло быть доверено только авторитетному и знатному вельможе. Но до этого он успел послужить послом в Персии – Иране, куда был отправлен его политическими противниками, которые видели в нем потенциального претендента на казанский престол.
Однако опасения были напрасными – Мухаммедьяр не стремился к власти, и, когда в 1549 году она буквально упала в его руки, он отказался от ханского трона в пользу малолетнего сына Сафа-Гирея – Утямыша, регентшей при котором была легендарная Сююмбике. Именно Мухаммедьяр стал инициатором демократических реформ, позволивших ослабить налоговую удавку с крестьян, городских ремесленников, мелких торговцев и принесших славу "крестьянской царице". За что вскоре вместе с Сююмбике был посажен в тюрьму. Регентшу потом отправили в почетную ссылку в Москву, а Мухаммедьяр был освобожден захватившим престол Шахом-Али – ханы в Казани менялись как перчатки.
В том же поворотном 1549 году Мухаммедьяр отправляется с дипломатической миссией в Москву, но пропадает при загадочных обстоятельствах (по официальной версии, Мухаммедьяр пал при защите Казани). 8 августа великий князь Иван Васильевич хладнокровно отвечает Казани: "Магмедьяра толмача Казанского убили наши люди в Муроме". По другой версии, он был убит московскими казаками Северги Баскакова. Убийцы были пойманы и казнены.
Но в России с тех пор, зародилась нехорошая традиция дурного обращения с поэтами: сначала с чужими, а потом и с собственными.
Казанский летописец: "Над вымыслом слезами обольюсь"



