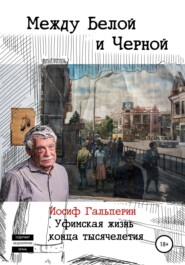
Полная версия:
Между Белой и Черной
Потом до трусиков долгое время дело не доходило, всё как-то руки не доходили. Общение с женским полом, включая дружбы и влюбленности, шло отдельно, анатомические наблюдения – отдельно. Тем более что багаж личных впечатлений бледнел перед колоритными листами из дедовой папки репродукций собрания Дрезденской галереи. Несмотря на то, что самую яркую из них – «Венеру» Джорджоне – дед вынул из папки и держал при себе, чем вызывал пристрастные комментарии своей невестки – моей матери, для учащения пульса мне хватало и других живописных работ.
Отдельно я любовался светлорусой косой Гали, отдельно – следовал наблюдениям товарищей за тем, как девочка трётся фартучком об угол парты. Говорил ребятам о своей привязанности к голубоглазой однокласснице и с ними же обсуждал излишне кокетливое поведение ее вертлявой подружки, обсуждал в выражениях достаточно грубых, хотя и имевших фантастическое отношение к женской психофизиологии. Другая, пухленькая девочка, приносившая в наш пятый класс из дома запах, видимо, лаванды, волновала не только намечавшимися округлостями и фамилией Теплова, но и этим полувзрослым запахом. Может быть, она просто обильно потела, как все полные, и лавандой хотела перешибить пот, но в результате сильнее привлекала внимание к своему телу.
Запала в воображение ситуация из любимой фантастики: где-то как-то люди оказались маленькой группкой, для выживания необходимо продолжение рода, случайная компания вынуждена разбиваться на пары. Эту ситуацию потом часто мысленно проигрывал в разных сочетаниях. Думаю, привлекала обязательность выбора, не оставляющая женскому полу возможности увильнуть.
К моим тринадцати годам мы очень удачно переехали в отдельную квартиру (первую в моей жизни) на улицу 8 марта, в моем восприятии название не имело отношения к женскому полу, зато имелся балкон на третьем этаже. Не слишком высоко – в самый раз, чтобы заглядывать за вырез платья. Не то, чтобы это занятие заставило сразу меня забыть Галю, которая осталась в Черниковке, километров за двадцать от нового дома, но я вполне рационально стал сверху выглядывать симпатичных сверстниц среди вновь обретенных соседок.
С самой сверху симпатичной оказался в одном классе. Плюс к рыжим волосам, классической фигуре и бархатным глазам у нее оказался необычный, с хрипотцой голос. Казалось бы, ну – старайся, пытайся. Но я уже тогда и почти всю дальнейшую жизнь сторонился красавиц, трусил, убеждая себя, что не достоин (и правильно: один раз не удержался – с тех пор накрепко женат…). И завязал первый в жизни роман с девчонкой из старшего девятого класса – уж больно внимательно, как тогда писали – тревожно и весело, посматривали на меня ее утиные глазки. Ни в какие глубины ее тела особенно не стремился, потому что обмирал от прикосновений и относил плотские утехи к сложной и ответственной дальнейшей жизни. Хотя и первый поцелуй был – на морозе, под ясными звёздами, сиявшими над почти деревенским двориком среди большого города, когда я поскользнулся, попрощавшись, упал, а она заплакала, пожалев. И первые полуголые объятия (Галю я, по-моему, так никогда за руку и не взял). И первый мужской разговор с признанным сердцеедом и моим старшим другом Бессоновым, когда выяснилось наше соперничество. Мы решили, по моему предложению, что из-за бабы не стоит ссориться, и познакомили общую пассию с третьим другом. Он ей подошел.
Вот с таким багажом я встретил свою первую настоящую любовь. Таню я по-настоящему хотел. Хотел слышать ее почти мальчишеский, но тайно капризный говорок, ловить искорки в светло-карих, почти с китайским разрезом (мать – из вывезенных в Союз русских остатков КВЖД, сказалась, что ли, на генах страна пребывания?) глазах. Очень хотел быть талантливым (это напрасно, ни одна из моих привязанностей меня не старалась поддержать и вдохновить, более того, всегда выяснялось, что я привлекал их внимание отнюдь не стихами), умным (спорил с директором школы на уроках истории), честным (писал сочинения так, как считал нужным – потому и трояк перед выпуском) и сильным. Пусть не таким, как она на волейболе, но тоже достаточно ловким – чтобы танцевать шейк, почти падая у ее вывернутых наружу ног. Мне и это казалось особенно притягательным.
Конечно, хотел прикасаться! Мы мучили друг друга часами объятий, не давая юным телам разрядиться. Я, конечно, уверен лишь в своих мучениях, но помню и Танину дрожь, когда мои пальцы оказывались под грубой шкурой спортивной майки… Как раскрывались ее полноватые губы, нижняя – капризная и верхняя – вздернутая! Кажется, это называется «целовались до одури», даже в классе, где мы общепризнанными женихом и невестой сидели за одной партой, ухитрялись находить моменты для ласки. Искал, конечно, я, а она допускала мою руку под тесный манжетик школьной формы.
Если залезать в непознаваемые глубины, то можно предположить, что нашу безоглядность поощряла общая эротически-свободная атмосфера бывшей женской гимназии. Мы могли в обнимку ходить на глазах нашей молоденькой классной руководительницы, когда мы ссорились, то мирила нас завуч по воспитательной работе. Некоторые вокруг тоже не отставали. И не только ученики. Громкоголосая, красивая и большая, как греческая богиня, учительнице биологии смело поправляла чулки, ставя свою идеальную ногу на сиденье парты рядом с учеником, не прерывая рассказа о жизни животных. Потом она родила девочку с таким же покатым лбом и густыми волосами, как у нашего грозного директора…
Опыт объятий и запрет на дальнейшее, принятый нами по крайней мере до окончания школы, привел к тому, что я стал острее ощущать прикосновение других девушек. Помню, в переполненном «втором» троллейбусе я оказался прижатым к заднему стеклу, рука нашла себе место за поручнем. И вдруг в раскрытую ладонь легла девичья грудь. Сбоку мне была видна лишь прядка надо лбом попутчицы, зато грудь я изучил, возможно, к девушкиному удовольствию, в полной мере. Это был опыт бесчувственной половой близости, я ведь даже не увидел ее глаз. И этот опыт долго казался мне единственно вероятным способом снять юношеское напряжение, поскольку о чувствах к кому-либо, кроме Тани, речи быть не могло.
Неудивительно, что и в Москву мы с Таней поехали вместе. В нашем математическом классе я не был самым фундаментально лучшим учеником, но уроков провинциальной старушки Ольги Архиповны мне хватило, чтобы решить переданные мне за дверь экзаменационного зала два варианта вступительных задач, – и Таня со своей подружкой поступили. Мы оказались в разных общежитиях, в разных компаниях – я в разгильдяйско-свободной гуманитарной, она – в правильной и точной среде будущих управленцев. И я почувствовал, что значит книжное слово «отчуждение». С тем большим отчаянием я продолжал ее желать.
Я понимаю, что могу показаться смешным, глупым, грубым, во всяком случае, неделикатным. Но если уж взялся говорить о страхах, обязан достаточно внятно сказать о самом, может быть, липком из них. Надеюсь, это не заставит думать обо мне плохо тех, о ком я пишу.
Так формировалось мучительное «табу». Я не боялся оказаться несостоятельным при реальной близости, потому что не знал, что у женщин тоже могут быть свои требования. Когда в одной из женских комнат общежития меня томным голосом спрашивала, явно издеваясь, двадцатилетняя опытная девушка: «Ося, вы можете дать счастье женщине?», я даже не понимал, что речь она ведет об оргазме. Я боялся самой близости, как запретного. Очень может быть, что этот страх, преодоленный безоглядной взаимной любовью, называется целомудрием. Но до преодоления еще было далеко, путь лежал сквозь обычные общежитские шалости, путь случайный, приведший к верной точке.
Каких только слов я не услышал от девушек, обвалившихся на меня на первом курсе. Лез за пазуху, радуясь безответственности и необязательности, и слышал холодное: «Ты не думаешь, что мне может быть больно?» Та, которую пожалел и защитил, случайно выглянув в коридор, сказала при следующем свидании: «Когда мы поженимся, папа с мамой подарят нам эту квартиру и машину, а себе купят другую». Папа был полковником, мама – майором, а я собирался жениться на Тане и убежал. Еще одна, присевшая на ручку жидконогого кресла в холле рядом со мной, призналась, что больше пятнадцати минут целоваться не может, я не понял, но на всякий случай испугался. От одной прямо из постели в новогоднюю ночь меня утащили друзья, подслушав обещание жениться (с Таней начались размолвки). Про другую я гордо сказал, придя на рассвете в нашу комнату, что она оказалась девственницей. От возмущения Вовка так брыкался, что запутался в одеяле и долго не мог выбраться, чтобы сообщить мне, под хохот остальных, насколько я неправ.
У них даже песня была про меня, ставшая одним из фирменных знаков «Шуги кокупы», про то, как я, самый младший в компании, все никак не могу лишиться девственности. Не помогло даже близкое знакомство с пролетариатом. В кафе перекидывались взглядами с соседним столиком, выбирая, какая из сидевших дам больше подходит. Пошли приглашать на танец – нетолерантный, по нынешним меркам, конфуз: у той, которую выбрал Юрка, ножки, до того спрятанные под столом, оказались от колен маленькими и толстенькими, как пивные бутылки. А у моей одна нога была очень даже ничего, зато вторая – сухая. Да еще на свитере – значок «Ударник коммунистического труда». И чего она с ним после штукатурных своих работ потащилась из Кузьминок на улицу Горького!
Делать нечего, поехал провожать, надеясь на количество выпитого. Но когда она меня затащила на какой-то чердак, вырвался и заторопился в общагу – мол, скоро закроют. Думал, на этом все и кончится. Тем более, из конспирации назвался Игорем. Но Юрка подвел – показал своей коротконогой путь на Ломоносовский. И вот через несколько дней они явились туда довершить начатое с бутылкой, половиной буханки и солеными огурцами. Я убежал из комнаты, соврав про заседание редколлегии стенгазеты, а когда вернулся, моя баба-Яга радостная и довольная щипала волосы на мускулистой груди гитариста Андрея. И никак не могла понять, почему ребята меня зовут «Ёсиком». «Ёсик? Ёсик? – Игорёсик!» – нашелся Валерка.
А я не на редколлегию вовсе убегал, а к Любе. Поговорить. Как-то хорошо у нас с ней это получалось. Тем более, что я не пытался вообразить какие-то более близкие отношения – слишком хороша, не по мне. Даже старался познакомить ее с Вовкой, считал – он достоин. Однако разговоры, многокилометровые прогулки сквозь метель, а главное – естественная готовность помочь, признающая, при этом, мою силу, сняли отчуждение к чернобровой и краснощекой дальневосточнице. Все стало просто и неотвратимо, как у первых и единственных людей на Земле…
Совершеннолетие не уничтожило остальные мои тревожные вопросы. Что там у нее в голове? Как она сегодня на меня посмотрит? Нужен я ей? Боится забеременеть или не хочет раствориться, раскрыться? Почему со мной она так не смеется? И главный страх – охлаждения, измены, потери. Я научился его преодолевать, заставляя себя быть нужным, снова интересным, а конкретнее – следить каждодневно не только за собой, но и за тем, о чем думает человек рядом. Хотя тут встает новая опасность – надоесть, и не просто своим присутствием, а еще и влезанием в душу. Остается, несмотря ни на что, ноющая боязнь несоответствия ожиданий – и того, каким я окажусь в данный момент.
Боялся обидеть других женщин, боялся отказывать им – вдруг судьба за это больше ничего не предложат. Но ухитрился обойтись без серьезных романов. Даже гордился этим, пока подруга Альбина не сказала: «А ты подумал, что кому-нибудь из них хватило бы и маленького кусочка счастья?» Хмыкнул: «Тоже мне – счастье!», а потом сообразил, что дело-то не в моих достоинствах, а в том, что рядом со мной могли сочинить женщины.
Страшнее всего в этой и без меня растиражированной сфере половых откровений оказалось впечатление, полученное от друга. Отец многих детей и муж не одной жены, он вдруг рассказал мне, как влюбился в молодого поэта, как тот капризничает и жеманничает, мучает и не отпускает… Я заледенел! И стал выискивать и у себя признаки подобной возможности. Припомнил удивленно-радостный взгляд балетного критика, я его поцеловал в щеку от незнания этикета, вместо того чтобы просто приложится, что, как я потом заметил, проделывали все окружающие. А критик этот не мог оторваться от моего автора-физика, который свою неординарность подчеркнул, зайдя на нашу общую редколлегию в шортах. Всплыли, добавляя ужаса полуабстрактным рассуждениям, слова одной уже умершей подруги, которая увидела в моей гомофобии латентную противоположность…
Слава богу, обошлось!
6.
Хорошо написал или нет – не понять никогда. Можно только почувствовать, насколько полно высказался. На данный момент, потому что завтра легко может оказаться, что сказал не то, что хотел, в недостаточной мере, намекнул на приемлемость того, что противно. И т.д. Стиль изложения раздражает и кажется искусственным, как эхо собственного голоса в зеркалах телефонных сетей. С этими вечно царапающими проблемами я живу больше сорока лет, с тех пор, как стал писать тексты, предназначенные для чтения посторонними.
Хотя, конечно, «хорошо написано» – это был главный критерий. Но важно было, чтобы он прозвучал и после опубликования опуса, а не только при первом чтении другом Сашей Касымовым. Мы с ним с шестнадцати лет стали публиковать заметки в республиканской молодежной газете (он – чуть раньше, так ведь и старше!). Переживали, когда читал и правил текст штатный сотрудник, потом – редактор. Раздражение этим естественным процессом осталось до сих пор.
Впрочем, начиная писать, я совершенно не задумывал работать в газете, отцовская лямка не казалась по плечу. Я и напечатался в его «Ленинце» случайно, безо всякого отцовского участия: девятиклассником рассказал знакомой литсотруднице, что мне не нравится в моей престижной школе, и услышал в ответ: «Слабо об этом написать?» За «подвал» о воспитательном ханжестве я получил свой первый гонорар и тройку по поведению. Чуть позднее выяснилось, что самое страшное в газетной работе – писать не о том, чем хочешь поделиться, а о незнакомых прежде людях, брать на себя ответственность их описывать и оценивать. После первого нашего совместного с Сашей фельетона «Танцбище» уволили массовика-затейника в парке…
Любопытство или любознательность помогали спорить с внутренним голосом, воспитанным на советском почитании физического труда. Белоручка, мол, сам ничего не умеешь сделать, сопляк, а туда же – припечатывать! С одинаковым трепетом расспрашивал столяров обозостроительного завода, как они ладят свои колеса и телеги, и могучую технологиню на пивзаводе – о брожении и созревании. Естественным казалось то, что позже стало работой: узнал – поделись. Главное, чтобы было интересно узнавать. Очевидно, это и есть основная сложность труда умственного.
Избегал ее, уходя в заведомо интригующие сферы. Помню, в девятнадцать лет решился сделать первый серьезный газетный материал на мировоззренческую, что ли, тему. О фокуснике Михаиле Куни, который был как бы пристяжным к славе Вольфа Мессинга. Он тоже на своих сеансах угадывал задуманное зрителями, мгновенно складывал огромные числа. Я захотел написать о бессловесном контакте. Расспрашивал об этом семидесятилетнего Михаила Абрамовича, эмигрировавшего в свою экзотическую профессию из интеллигентских 20-х годов, из училища живописи, где его мастером был Шагал.
Мы шли по уфимской улице Карла Маркса к музею живописи имени Нестерова, где я договорился, что нам покажут в запасниках не выставлявшиеся картины Давида Бурлюка. Старому художнику было важно встретиться с полотнами, близкими его молодости, и мы говорили о том, как Бурлюк во время Первой мировой написал 35 работ в деревне под Уфой. Но я в это время напряженно думал: «Есть ли телепатия?» Михаил Куни, не прерывая разговора об авангардной живописи, вдруг ответил: «Конечно, есть!». Я шел впереди Михаила Абрамовича, как бы расчищая дорогу старику, руки наши не касались, как это у него бывало на концертах со зрителями, глаз моих он не видел. Но почувствовал же, о чем я молча думаю! Я от неловкости не переспросил старого фокусника, как же это у него получается. Потом, после выхода материала, в котором я, конечно, о личном опыте не упомянул, он написал мне из Ленинграда, прислал репродукцию своей картины. Встреча с ним – ожог неведомого, ощущение более сильное, чем боязнь того, что мною можно бессловесно манипулировать.
Тяга к эксцентрике привела к тому, что я стал писать почти о каждой цирковой программе. И навсегда потерял страх перед зверями. Ошивался за кулисами, часами сидел на репетициях, водил слониху Рэзи по городу от вокзала до цирка, держа за цепь, обмотанную вокруг толстенной ноги. Кормил бегемотиху, совал руки в клетку, чтобы погладить тигрицу Волгу. Ощущение – как от пыльного ковра. Попрошайку гималайского медвежонка дергал за язык, который он так старательно высовывал, прося конфету за конфетой. Обдирал линяющих белых медведей. Позволял себе эти вольности без сопровождения служителя. А зря, однажды служитель, к которому я присоседился во время кормежки зверинца, заслонил меня от прыжка пантеры Кометы. Она заволновалась, увидав незнакомца рядом со своими новорожденными котятами. Ее лапа содрала у него кожу над бровями.
Цирк манил меня свободой, «свободная профессия», другим пространством. Но вскоре я понял, что, как и в любом другом серьезном деле, самое трудное и самое высокое в кажущемся «невысоким» искусстве цирка со стороны не видно. Публика не успевает заметить разницу между верчением десяти или двенадцати тарелочек на тростях, не успеет посчитать, сколько оборотов сделал акробат, взлетая с першей, не поймет, что дрессировать зебру сложнее, чем такого же полосатого тигра. Понимают и замечают свои, это еще Шкловский в «гамбургском счете» объяснил.
И «свои» четко знают, почему людей так манит цирк. Посмеиваясь над укротителем белых медведей Володей Синицким, который ради манежа бросил третий курс ВГИКа, цирковые понимали цеховой закон: аттракцион отца нельзя оставить. А что касается поездок по всему миру, так они не только в Токио (куда меня с собой Вальтер Запашный звал ассистентом), но и в Уссурийск заезжают. Кажется, именно там пьяный цирковой завхоз расхвастался перед гостями: «Кто в цирке хозяин? Я! Чьи звери? Того, кто им мясо выбивает!» И сунул руку в клетку к Мальчику – самому большому, полутонному медведю Синицких. Мальчик в нее и вцепился, а когти у медведя внутрь загнуты. Трезвеющие гости с ужасом выдирали завхоза из лап, в результате руку из плечевого сустава вырвали, а Мальчику пожарным багром повредили лапу. Так Синицкий потом еще и в суд подал: за травмирование дорогого зверя, государственной собственности.
Нет, не за красивой жизнью поколение за поколением шли простужаться в шапито и зарабатывать гастрит в цирковых общагах. Помню в комнате гостиницы двух ребятишек, лет шести-девяти, которые очень строго таскали за шкирку бенгальских котят. Теперь они стали не менее знаменитыми, чем их родители, укротителями, и таскают, наверное, по гостиницам своих детей. Будущих Запашных.
Я был не критиком, а репортером. Даже «менял профессию»: Вальтер Михайлович Запашный разрешил войти в манеж и ассистировать ему на ночной репетиции молодняка. Я вошел в раж, гонял палкой годовалых львят, дергал пуму за хвост, когда она «тормозила», чем пугал фоторепортера редакции. Вальтер Михайлович дал в руки алюминиевый шест, велел наткнуть на него кусок мяса и встать по ту сторону круглой дыры в стальной решетке манежа. Надо было приманивать молодых львов, чтобы они научились красиво, в прыжке, покидать представление. Я встал у барьера – и только тут сообразил, что прыгать эти звери, размером с крупного дога, будут прямо на меня.
И не боялся. Именно потому, что считал себя репортером, пробователем чужих жизней, полпредом читателей. Я подсознательно себя подогревал: ты можешь то, что может любой другой человек. Пусть лишь на секунду. Если поймешь, как он это делает, и сумеешь выбрать из его поведения нужное. Будешь смотреть таким же немигающим взглядом, как Запашный, – и твое внимание покажет зверю, что ты хочешь быть с ним на равных (а Вальтер еще и улыбался, хищно обнажая клыки. Зверей при мне не бил. И при этом готов был ударить лопатой проштрафившегося ассистента). Как старший брат. Главное, как учил Михаил Абрамович Куни, найти контакт (инструктор в аэроклубе кричит курсанту «Контакт!», тот отвечает «Есть контакт!» – и запускается мотор), а потом уже этот зверь становится для тебя человеком. А незнакомец – возможным вариантом тебя.
Конечно, подражание, соучастие касалось, в основном, не экзотических профессий. Но тоже, желательно, романтических, хотя бы с примесью риска, связанных с путями – воздушными, водными, земными, подземными. Писал о речниках, летчиках, железнодорожниках, шоферах, трассовиках. Например, я без проблем прошел на кабелеукладчике (такой большой плуг с барабаном кабеля наверху) по пустынной границе с Афганистаном от туркменского участка до таджикского, сквозь окаменевшие пески и рассыпающиеся скалы. Потом это почти актерское вживание в предлагаемую роль помогло мне в армии, где после университета сумел освоить профессию радиста.
Броня невидимого, но ощущаемого мной интереса тысяч людей, незнакомых, но пославших «на дело» именно меня, берегла меня во время авторалли, где я был штурманом, ничего тогда не понимая в машинах, и летал на 21-й «Волге» со скоростью 150. И в медной шахте на глубине полкилометра, где от взрывной волны не просто закладывало уши, а еще прижимало эти самые уши к черепу. И в суточном дежурстве с милицейскими оперативниками, когда пришлось вместе с ними врываться на «малину» (они с пистолетами встали под окнами, а я, безоружный, вслед за их начальником поперся в дверь). И в работе бригадира проводников поезда, мотающегося две недели по одному маршруту. И на тушении лесного пожара, когда нас с фотографом высаживали с вертолета (перед этим такой же «чебурашка» Ка-26 разбился, а наш перед вылетом чинили с помощью топора) в сужающийся круг языков огня, и мы ветками и лопатами отбивались от них, пока не пришла техника.
Эту уверенность в неуязвимости «по службе» до сих пор не поколебала и гибель на следующем ралли того водителя, из машины которого я трое суток не вылезал. И смерть на другом лесном пожаре фотографа, который в свое время пришел ко мне в редакцию мальчишкой из ПТУ и стал потом заметным в Москве репортером. И вообще все случаи репортерских смертей и увечий. Будь спокоен, пока ты какому-то делу нужен, и будь что будет. А то, что нужен – надо доказывать ежедневно.
Другими словами, все будет хорошо, пока ты поступаешь правильно, в ладу с тем, что тебя ведет. Репортерство, а потом и более глубокая журналистика на практике означали «учиться у жизни», снимали недовольство собой, подобное басенному «они работают, а вы их труд ядите». Это был как бы поиск обязанностей при старании сохранить чувство свободы. Раз я меняю образ жизни, примеряясь к чужим судьбам, но оставаясь собой, – я свободен.
Но попадаю в другую зависимость, которая тяготила не меньше официальных рамок пропаганды или морали. В зависимость от того человека, которого ты выслушал. До сих пор, пока не написал материал, в ушах звучит голос того, кого расспрашивал. При конфликтах попадаю в более тяжкую зависимость: от противоположных мнений, разноголосицу нельзя свести к плоскому газетному листу. Поэтому часто выбирал свою позицию, не совпадающую ни с одной изложенной мне. И выражал ее в строках и между них, называя себя «экстремистом компромисса». По крайней мере, сволочью меня не назвал ни один герой фельетона или расследования.
А трусом? Стоя под «трассерами» в августовскую ночь у Белого дома, я старался думать не о том, что будет со мной, а о том, как я буду об этом писать утром. Анестезия служебного воображения. О подобных ситуациях, когда профессия становилась синонимом поведения, диктовала выход за рамки страницы формата А-4, А-3, А-2, впрочем, стоить говорить не в страдательном залоге, так что подробности – в другом месте. В этих случаях я не пытался примерить чужую судьбу, а менял свою, иногда – и чужие. Но были в моих поисках материала два случая поведения вынужденного, подневольного. Один: когда надо бы испугаться – не испугался. И второй: когда нечего было бояться – запаниковал.
Первый случай связан с Ингушетией, я тогда в первый раз на Северный Кавказ, еще до Беслана, прилетел. Искал свидетелей налета террористов на Назрань, разбирался, кому это было выгодно и почему войска повернули от города, не спеша к нему на помощь. В гостинице в холле сидели бородатые мужики с автоматами, охрана. Точно такие «телохранители» не помешали потом «неизвестным» вывезти съемочную группу одного телеканала и крепко попугать. Но со мной, тем более что я успел поговорить с тамошним президентом, никаких инцидентов до конца поездки не было.
И вот машина, обеспеченная пресс-секретарем президента, завозит меня в Слепцовский аэропорт, мы прощаемся и я иду на регистрацию. Смотрю в окно – наш ЯК-42 стоит с раскрытым люком на правом моторе и в этот люк по чему-то бьют кувалдой. Потом объявляют, что самолет сегодня не полетит. А ночевать в аэропорту негде, разве что в окопчик, рядом с которым темнеет БТР, попроситься. Я звоню пресс-секретарю – он уже дома, в ауле за 150 километров. Ведь пятница же! Надо самому добираться до гостиницы, иду искать машину. На выезде, у окопчика, вижу молодого человека в блестящем черном костюме и таких же башмаках. Спрашиваю, бывают ли машины. Он вежливо интересуется, зачем это мне. И потом предлагает добросить до города – не один десяток километров.



