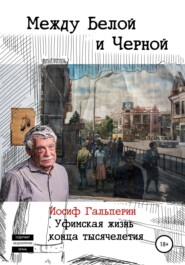
Полная версия:
Между Белой и Черной

Иосиф Гальперин
Между Белой и Черной
Вместо предисловия
Непридуманная проза самых разных жанров: повести, рассказы, эссе, сценарии, очерки – и все это вместе со стихами, написанными в то время, о котором идет речь. Личная жизнь, творчество, политическая борьба, история и философия – в одной книге, раскрывающей события уфимской жизни (впрочем, присутствуют и Москва, и Париж…) откровенно и пристрастно. Некоторые из публикуемых текстов публиковались в литжурналах России, Германии, Израиля, США, были отмечены различными премиями, все вместе они собраны впервые, хотя написаны в разные годы.
В оформлении обложки использована картина действительного члена Академии художеств России Сергея Краснова.
Дизайн обложки – Варвара Каюмова.
Фото – Дементий Казанцев.
Тексты публикуются в авторской редакции.
I
Имя собственное
1.
Отец всегда ходил быстро. Даже когда ближе к старости порвал «ахилл», играя в настольный теннис с недотепами из «СовБашки». Недотепами я называю теннисистов «Советской Башкирии» по тому поводу, что они не нашли лучшего способа свергнуть отца с пьедестала, чем гонять его по углам стола. Хотя его возраст, астма, преднизолон и три инфаркта предоставляли им более благородные возможности. Смешно, но его травма случилась тогда, когда начала зарастать моя, а я «ахилл» порвал, играя в футбол на снегу. И оперировали его там же, где меня – снова пригодился блат, высокое травматологическое положение моего школьного друга Аркашки. Отец походил с полгода в гипсе – и снова забегал, слегка прихрамывая.
А тогда, задолго до переезда в столицу многажды орденоносной Башкирии, ему, конечно, хромать еще не надо было – в неполные-то двадцать пять, на войне его только контузило, а не изувечило ногу, как дяде Мирону. С другой стороны, медленно в тот вечер не пройдешь по обледенелым чкаловским улицам, летишь по метели, как на салазках, чтобы не замерзнуть. Мимо лабазов, бараков, бывших особняков – к солидному корпусу Чкаловского пединститута. Не стоит партийному товарищу, вечному активисту не только истфака, но и всего вуза, опаздывать на торжественное заседание.
Вбежал, на ходу раздеваясь, – и сразу на сцену, где президиум. Выскочил и заявил: у меня сегодня родился сын! И в честь сегодняшнего праздника, годовщины Советской Армии, в честь вождя, который выступил с важнейшей речью на торжественном заседании в Москве, я называю своего первенца Иосиф!
Удружил. Мало ему было, что сам Давид Гальперин, так еще и сына библейским именем назвал. Хотя, уверен, ни о какой библии в тот момент он не вспоминал. И о процессах над космополитами не думал. Отец был умным, но не хитрым, на двойной счет не способным, недаром играл в стоклеточные шашки лучше, чем в шахматы. Сомневаюсь, впрочем, чтобы фронтовик, к двадцати годам два года отвоевавший и получивший медаль «За отвагу!», хотел 23 февраля 1950 года подлизаться к власти именем сына. Скорее, он всерьез считал себя частью пролетарского государства, и меня туда же вкладывал, закладывал, как карфагеняне – первенца в угол строящегося дома. А моя скептическая мама, от окна которой в роддоме он совершил марш-бросок до института, мама, носившая походящее случаю имя Вера, думала в то время уже немного по-другому.
Во-первых, в отличие от отца, к последнему курсу уже разобравшего, что работать он будет в газете, она была историком по призванию. Даже археологом мечтала стать. И потом моей первой любимой книжкой она сделала «Героев Эллады». То есть на имена и прочее культурное наследие смотрела внимательнее. Жаль, конечно, что о выборе имени для первенца они заранее не договорились, по крайней мере, не решили, как об этом будут объявлять. И торжественный выпрыг отца на сцену перед президиумом она бы не одобрила.
Но то, что ее любимый двоюродный брат, с которым отец каждый выходной играл в шахматы, носит имя Иосиф, он, разумеется, помнил. Как и о том, что деда материного так же звали, и еще одного двоюродного брата, жившего под Киевом, и еще одного, пропавшего в войну – осталась только карточка с трофейным мотоциклом. Получается, даже если она была заранее согласна, ее выбор был продиктован другими соображениями. Имя, на самом деле, ложилось в строку семейной летописи, а подавалось – как в строку государственных дел. Скорее всего (зная ее склонность к «суевериям», как это определялось в партийно-комсомольской среде), она понадеялась на приметы. Все ее Иосифы были здоровы, курчавы и любимы женщинами. Спасибо за доверие!
Если же попытаться как можно дотошнее разобраться в картинном жесте отца и скрытом желании матери, то стоит вспомнить об отягощениях. Ситуацию, кроме прочего в стране, осложняла тяжелая беременность моей долго недоедавшей матери, на свет я появился недоношенным, семимесячным. Через неполные восемь месяцев после свадьбы… О чем это может говорить? Строгие правила? Пуританские нравы? Скорее, мама до последнего, а «дружили» они до того года два, проверяла чувства матерого фронтовика – старше ее на целых три года! – и любимца институтских девушек…
Все сошло относительно удачно благодаря присутствию чкаловского главакушера Айзенштадта, кумира гарнизонных жен. Он, спешно вызванный маминым отцом – будущим дедушкой, не успел даже руки помыть, так и стоял в дверях, давая рекомендации «терпеть!», когда маме без наркоза накладывали двадцать швов.
Так что, по идее, не должен был я родиться 23 февраля под аккомпанемент речи Сталина, совпадение достаточно случайное и справедливо могло вызвать у отца смутное чувство благодарности к чему-то большому, что помогло появиться на свет его сыну. А в бога он тогда не верил.
Таким длинным предисловием я пытаюсь объяснить свои два, один за другим, появления на свет. Первое, физическое – в зимние сумерки, под лампами чкаловского роддома и наблюдением доктора Айзенштадта. И второе, спустя некоторое время – в виде имени на свету торжественного заседания, имени, которое поначалу не имело ко мне ни малейшего отношения.
Я вообще думаю (это и заставило меня сесть за компьютер): человек заполняет свое имя не сразу, поначалу абстрактное, наполненное только фонетически, связанное ходульными ассоциациями со всей накопившейся шелухой человечества. Это уже потом оказывается, что за абстракциями стоят древнейшие связи, когда события и поступки твоей маленькой жизни возвращают шелухе цветение плоти, когда банальности приобретают привкус вечных истин. Процесс заполнения, впрочем, зависит и от имени, и от назвавших, и от принятия человеком на себя обязательств перед словом, на которое он откликается. Мне повезло – пространство, которое предстояло заполнить, было далеко не тесным, можно было выбирать стадии и скорость наполнения. На всю жизнь хватило.
2.
На самом деле в паспорте у меня неправда написана. По каким-то таинственным причинам органы оказались снисходительными к неточности. В паспорте написано, что родился я в городе Оренбурге. А я родился в Чкалове, как мизерную часть своей истории назывался Оренбург. Конечно, «Чкалов» – так никто произнести не может, если привык по-русски разговаривать, а не по бумаге. Так что родился я в Чикалове. Это летчик такой был, еще до войны, ему памятник поставили на набережной, спиной к мосту и Зауральской роще. Сам Чикалов в Оренбурге никогда не был, а получил город его имя только потому, что во время войны в эти степи были эвакуированы два летных училища. «Чкалов» – это был как бы символ сталинских соколов, не называть же было город «Сталиносокольск», а Оренбургом оставить было нельзя – никак не годилось название с его четким немецким привкусом в годину борьбы с немцами. Хотя почему-то имя большевика Цвиллинга оставалось на уличных табличках во все времена.
Одно училище готовило летчиков-истребителей, а второе – зенитчиков, позже – ракетчиков. Летчики были все невысокие, ладные, ходили, как танцевали. В сквере у Дома Советов или в другом, где цементные, крашенные зеленым лягушки пускали струйки в фонтан, летчики знакомились с лучшими девушками Чкалова. Спустя много лет я готов был под честное пионерское доказывать уфимским одноклассникам, что вживую, не на газетном фото, видел одного из них с этой вот красивой улыбкой (и с красивой девушкой). Конечно, ведь Юрий Гагарин – это же мой земляк! Училище имени Ивана Полбина – так называлось ЧВВАУ-1, потом, раз уж специализировались на маленьких курсантах, оно перешло на подготовку морских летчиков. (А они не должны быть большими – катапульты не выдержат веса, и для космических кораблей удобнее). Тех самых летчиков, которые должны были стать грозой американских авианосцев. Не стали. Училище закрыли уже в послесоветское время.
Город переименовали еще раньше. Решили, что одного Чкаловска, бывшего саратовского Вольска, хватит на славу довоенного героя, а в Вольске он, по крайней мере, родился. Хотя, может быть, переименование было как-то связано с его полетом в Америку, проторившим путь «ленд-лизу». По крайней мере, город сменил собственное имя опять на пугачевско-гриневское как раз тогда, когда с его улиц исчезли «студебеккеры» с квадратными передними крыльями и «шевроле» – с круглыми.
Мы еще побегали по чкаловским пыльным мостовым за серебряным шильцем в небе с криками: «Ястребок!». Серебряная пулька в небе, тащившая за собой перистый хвост, – это были сначала МиГ-9, а потом МиГ-15, помнится, один из них даже по улице провезли на прицепе. Очевидно, во время маневров – тогда много другой техники прошло по городу. А был он центром военного округа, и маневры были одним из его главных дел. Отец к тому времени уже перешел из молодежной газеты «Комсомольское племя» (правда, смешно?) в окружное «Боевое знамя», как бы на повышение пошел. Даже не странно, что имена газет были образованы такими обобщенно-призывными словами, как «племя» и «знамя», – газета ведь должна была объединять и вести за собой! Отца послали на большие маневры в Тоцкое, где атомную бомбу ради Жукова взрывали. Привез фото, на котором он настоящий танк заводит ручкой (нынешние счастливые автомобилисты и не знают такой металлической тяжелой загогулины), как какой-нибудь «ЗиС». А меня с собой на маневры не взял, как я ни просился.
Зато раньше брал на целину, наверное, когда еще в «Племени» служил. Мне всегда казалось, это был знаменитый Адамовский район, где потом «Солдата Ивана Бровкина на целине» снимали. Может, и не одна была поездка, потому что помню два разных пейзажа: метель, стужу за окном трехтонки – и осеннюю кузницу на голой земле, с ночным заревом и волшебным волосатым кузнецом, который молотом на длинной ручке бил по красной железке. Зачем он меня возил, как мать разрешила – не понятно. Большое ей за это навсегда спасибо.
Я думаю, та его поездка на целину была не за заметкой какой-нибудь, а за очерком. Отец считал их своим высшим достижением в журналистике, а мать, читавшая «Новый мир» и прочую прогрессивную литературу, относилась к газетным очеркам с предубеждением. Долгие годы она вспоминала отцу фразу, которую он ради оживления материала вставил в очерк. Механизатор приходит с поля в дом и говорит жене: «Пельмени, мать!» – как в столовке заказывает. Эти слова стали в нашей семье символом псевдонародности, плохой журналистики, которая пыталась играть на чужом, литературном поле.
Но по-настоящему отец гордился не очерками, а фельетонами. Тоже почти художественный жанр, только несладкий. Один из его фельетонов, как раз в последний приступ сталинских репрессий – в 1952 году, когда всех евреев за врачебное вредительство уже вроде бы собирались в лагеря отправить, привел к конфликту с местной конторой МГБ. Отец написал о каком-то преподавателе заочного юридического института, который брал со своих великовозрастных студентов взятки. А среди студентов, двигавшихся перебежками к заветному «ромбику», были и младшие, пока, офицеры госбезопасности. Они уже начинали копать под отца (и под нашу семью, соответственно), когда внезапно после смерти Сталина очередной острый приступ государственного антисемитизма сошел на нет.
Но все равно без последствий эта история не осталась. В ходе ее расследования выяснилось, что у нас – неправильная фамилия. Не те мы Гальперины, за кого себя выдаем. Бережанские мы, в общем (фу, какой суффикс неприятный!).
Дело в том, что спустя много лет после войны, в начале которой Додик Гальперин вместе со своей мамой бежал из Одессы под «Юнкерсами», отец решил навестить родной город. Посмотреть, сможет ли он там жить после всего (включая предательство дворового пацана, выдавшего немцам еврейскую семью). Выяснилось, что город раны залечил, об уехавших забыл, работы там маловато для тех, кто носит почти неприличные фамилии. К тому же после туберкулеза, пережитого в 17 лет в военном училище и изгнанного сурочьим жиром, отца настигла родовая астма. Настигла прямо в поезде уже на обратном пути, так что о фундаментальном возвращении к пенатам нечего было и думать – морской климат Одессы, мучивший кроме бабушки и поэта Багрицкого еще тысячи людей, никак не подходил астматикам.
В общем, с родным городом пришлось прощаться (хотя на любом домашнем сборище папа запевал, не подражая утесовской хрипотце: «Есть город, который…» Если, конечно, мама не успевала прервать – она была уверена в отсутствии папиного музыкального слуха). Но до этого – на одесском пляже перед отъездом – отец легкомысленно оставил под наблюдение малолетней родственницы костюм. И его украли вместе с документами. Пришлось и новый паспорт выправлять, и новый партийный билет.
И вот тогда, идя по следам семьи, органы обнаружили, что в местечке под Уманью, откуда Гальперины вышли, их было некое множество. Чтобы различать одних Гальпериных от остальных, тех, кто жил через местечковую реку, назвали Бережанскими. Прозвище такое было. Строгие органы, к тому же обиженные за своих офицеров-взяточников, решили ввести его в фамилию. Стал отец Гальпериным-Бережанским, правда ненадолго, до ближайшего планового обмена паспортов.
Но попутно выяснилось, что Шмуль Хаймович Гальперин, его отец, а мой дед, в паспорте записан Самуилом Ефимовичем. Тогда как в отцовских документах отчество отца пишется как «Самойлович». А их не поменяешь – у отца, кроме паспорта, еще и партбилет был. И бедного деда заставили менять имя: написали в паспорте нечто казацкое – «Самойло»!
3.
Мне, конечно, в то время было не до дедовского или отцовского паспорта, меня волновала самоидентификация. Не помню, чтобы я себя Иосифом считал, только вот мамино «Оська-барбоська» обижало сильно. Если бы был юридически правомочным лицом, обязательно сменил бы имя! Я вообще был очень обидчивым, первое, что помню: на Новый 1954 год (установил по карточке) меня нарядили каким-то белым клоуном. А я хотел зайцем! Расстраивался несколько лет, готовясь к очередному новогоднему карнавалу в детсаду, растравлял память. Еще переживал, что куда-то исчез мой первый друг – кот по имени Кот, большой и рыжий, который позволял мои тисканья и даже катания верхом. А зимой в первом троллейбусе, который ходил от вокзала, меня какая-то тетка назвала девочкой. Я отвернулся к окошку и зашипел, а сопровождающая меня бабушка принялась объяснять, что я вообще-то мальчик, просто золотокудрый и глаза синие. Я зашипел и в ее адрес: нашла, чем хвастаться!
Но скорее всего, я не за прозвище обижался на маму. За смену приоритетов. Она была, в свои двадцать с небольшим, роскошной матерью: внимательной, самоотверженной (работала на полставки, рискуя карьерой, чтобы больше уделять времени детям), страстной. Это-то ей и мешало, мучило. Тем более, что потрясения навалились разом. В течение полутора лет она потеряла дочку Иду, вскоре после родов погубленную врожденными пороками. Потом, вслед за смертью Сталина, которую она переживала вместе с большинством народа как переход к неизвестному будущему, она узнала о смерти своего отца (от «грудной жабы») в Киеве, и родила дочку Леночку. Пока Лена не родилась (мама решилась сразу после смерти Иды), ей жить не хотелось, а потом она стала за нее бояться. Сначала все мамины страстные плюсы были на одного меня обращены, потом, естественно, «барбоська» отошел на второй план.
Честно говоря, мои обиды и страхи чаще всего были просто выдуманы мной, а иногда и вовсе не имели внешней причины. Как-то зимой, болея, я лежал на родительской кровати и играл с любимой целлулоидной обезьянкой. Такая бежевая, похожа на человечка. Я крутил ее лапки, а они были на резинках, невидимых мне в ее туловище, и смеялся, когда резинка, закрутившись, потом заставляла лапку вращаться обратно уже без моих рук, как пропеллер. И перекрутил! Резинка лопнула, лапка отлетела, как пропеллер от самолета, – и я увидел, что у обезьянки внутри: переплетение резинок. Лапку я потом пытался приладить, боясь совершенного, потом ее куда-то задевал.
Я не то чтобы боялся наказания мамы или папы, я понял, что что-то нарушил – и это непоправимо. Непоправимости я и испугался. И запомнил сломанную обезьянку лучше, чем смерть маленькой сестры. А может быть, меня на те дни увели из дома. Троюродная сестра Света (дочь того самого любимого мамой брата Иосифа) рассказала полвека спустя, что Ида прожила все несколько недель своей жизни с ножкой, неестественно приставленной к туловищу. Лапка…
Думаю, что Еленой (Прекрасной) мама назвала вторую дочь по примеру относительно удачного проекта с моим именем. Мать до конца дней своих была атеисткой, в Библии видела один из сборников сказок (сказки рассказывала длинные, разных народов, из книги, которую ни я, ни Лена потом никогда не видели, до сих пор помню восточную про «Занги-Заранги»), но так страстно вникала в художественные подробности, что верила в приметы счастливых имен, Иосиф для нее был Прекрасный (я потом купил два комплекта манновского романа – себе и маме. На романе, думаю, и окончательно принял имя, как судьбу). Идой звали ее мать, мою родную бабушку, которая умерла во время войны от долгого, еще довоенного, рака. Несчастье не позволило остаться на земле внучке с ее именем.
Дед чуть не сразу женился на своей тоже довоенной подруге Мирре Марковне. А мама поехала в Киев, учиться на архитектора, но тамошняя жизнь и учеба в желанном институте ей не понравилась и она вернулась в Чкалов. А дед и Мирра Марковна уехали в Киев, оставив комнату в барачном полуподвале молодым. И так получилось, что в один год далеко от нее умер горячо любимый отец, Гдаль Арье-Лейбович (Львович – по паспорту) Трипольский, перед смертью успевший навестить оренбургскую семью (когда я его и запомнил), и произошла трагическая смена дочерей и их имен.
Вот я и получил право на временную дворовую свободу. В нашем Телеграфном переулке было два барака, где жили эвакуированные. Мы жили в дальней от центральной улицы Кирова постройке, зато в ее самом близком к Главпочтамту полуподвале, рядом с проходом между бараками. Напротив тянулись огромные ворота военных складов, от которых круглый год пахло тухлой селедкой. Пятьдесят лет спустя я нашел эти бараки по запаху со складов, которые выходят торцом в другой переулок, кокетливо названный Рыбным. Зимой у складских ворот, положив самокрутки на бочку, хлопали рукавицами огромные сторожа в тулупах и с берданками, а весной, когда они превращались в обыкновенных солдат, посередине переулка разливалась глубочайшая лужа, называемая Телеграфным морем.
Летом берега этого моря и были моими пиратскими владениями. В одних трусах и кудрях во главе ватаги старших девчонок и младших мальчишек я обходил вокруг наших бараков. Не всегда наши походы были безобидны. Как-то бежали мы вприпрыжку (кто был впереди?) за стариком в черной долгополой одежде и черной ермолке, крича непонятно почему (мне. А другим?): «Жид-жид-жид-жид, по веревочке бежит, а веревка лопнула и жида прихлопнула!». Веревка лопнула давно, еще в 39-м году, с тех пор дед Хиздо все бежал из своей Польши, слушая понятные по общей тональности крики разноречивых ребятишек и взрослых. Добежал он до второго этажа нашего барака, где его жизнь и прихлопнула. Под мой идиотский комментарий.
Скорее всего, я бывал в его комнате в нашем бараке, возможно, даже дружил с его внуком, если (не помню) именно его звали Илья. А может быть, и не в его комнате – семья-то Хиздо была такая разветвленная, что могла занимать две двери в коридоре. Я вообще любил ходить по комнатам, особенно – по более богатым. Нет, не завидовал – искал впечатлений. Бывал и у кассирши открытого кинотеатра, благодаря которой впервые заинтересовался зеркалом. У нее был длинный грустный нос одинокой послевоенной еврейки, она его часто пудрила, поэтому смотрела в зеркало. А на первом этаже лидерами моего внимания были Энна Соломоновна с мужем, у которых был настоящий ковер, и тетя Поля с сыном Ваней. На тетю Полю, жившую напротив нашего комнаты, мама оставляла меня, уходя по своим трудным болезненным делам. Ее теплота осталась в моем отношении к русским женщинам.
А вот Ваня, вернувшийся со срочной службы, в детстве был для меня героем романтической трагедии. Из-за него отравилась уксусной эссенцией красивая горбунья, жившая в соседнем бараке. До сих пор помню коробочку с пудрой («Кармен», кажется), которая осталась лежать на низком, если смотреть с улицы, таком же, как у нас, полуподвальном подоконнике. Осталась, хотя Маруся отравилась… Он, вроде бы, уличил ее в измене. Или упрекнул прошлыми, пока он служил (а служили тогда долго…), связями. Или сам изменил – пятилетнему пацану не все объясняли, да и не все объяснишь.
Не объясняли, но многое, зато, показывали. Что скроешь в бараке! Соседские девчонки подводили меня к своей двери и приглашали поглядеть в замочную скважину – чем мама с «папой» (папы у всех детишек в этой семье были разные) занимаются. А потом эти же девчонки повели всю команду за сараи, построили в два круга: девочки снаружи, мальчики – внутри. И приказали снять трусики. Помню, долго отказывался. Как раз до того момента, пока сверху не прозвучал громовый голос случайно заглянувшего взрослого: «Вы что тут делаете?!». Что делали? Росли.
Говоря о росте личности внутри имени, я не сказал о другом, перпендикулярном процессе. О привыкании к нему, освоении, признании его своим. Сначала мешала экзотичность – по сравнению с окружающим, дворовым. До зрелости любой Вася, Петя, Ваня казался более естественным, более привязанным к действительности, чем я. А потом и Фарид, Рамиль, даже Фягим – но еще и с оттенком общей с ними некоторой отдельности, примыкания, коалиции слабых, сплоченности меньшинств. Антисемитизм воспринимался более абстрактно, чем это мгновенное ощущение, которое возникало при назывании меня по имени любым посторонним человеком.
Хотя, конечно, естественный радиоактивный фон антисемитизма сказывался и на отношении к имени. Ксенофобски подстраиваясь к среде, я себя воспринимал таким же, как любые все. Только с чужеродным именем. Возможно, еще и потому, что среди моих героев поначалу вовсе не было евреев. Были герои Эллады – Геракл, Язон, Антей. Только потом я сообразил, что и отец, и дядя Йосик, и дядя Мирон не только воевали, как все знакомые мне взрослые, но и имеют особый счет к Гитлеру. Как и мама, вспоминавшая своих одноклассников, полегших в Бабьем Яру. И уже потом найденная среди рухляди книга о героях восстания в Варшавском гетто, книга, пылившаяся в стороне от остальных, потому что была запрещена вскоре после издания, заставила меня хоть немного гордиться своей принадлежностью к евреям. Впрочем, само слово это долго казалось оскорбительным. Как «жид».
4.
Может быть, дело не только в окружающей атмосфере переулка, где были перемешаны бывшие беженцы из Польши, не говорившие по-русски, эвакуированные вполне советские люди подозрительной (в ту пору – особенно) национальности и офицерские семьи соседних домов. Армия у нас и тогда, после войны, временно ее сплотившей, была школой давления сильных на слабых, большинства на меньшинство, старших (по возрасту, по званию, по зарплате) на младших. И это сказывалось в отношениях вольнонаемного журналиста с офицерами в газете, оборванца-мальчишки с ухоженными (по тем временам, когда белые бурки – в общем-то, валенки – казались предметом роскоши) детьми, за которыми приглядывали безработные горластые офицерские жены.
Мне казалось стыдным выделяться из общей массы еще и потому, что я так чувствовал всеобщее братство. Мои родители ощущали себя внутри не национальной, а интернациональной культуры (а я – интернациональной нищеты равенства). Насколько это возможно за тогда еще крепким «железным занавесом» – мировой. Наверное, только-еврейство напоминало им насильное соединение в гетто. К чему это приводит, они совсем недавно видели. Или напоминало черту оседлости, легшую на память их родителей. И которая, сохранись она без революции, обрекла бы их и их детей на менее интересную и интенсивную жизнь. Так они думали, так мама говорила нам.



