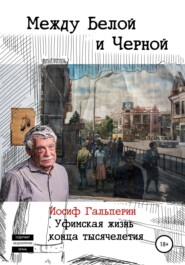
Полная версия:
Между Белой и Черной
Даже имя свое моя мама получила в противоречие с традицией. Ее бабушка была Двойрой, в ее честь и маму назвали, но записали Верой – рабфаковцы и студенты, круг ее родителей, думали по-русски о всемирном братстве. Как и бабушка, папина мама, которая была Песя, а звалась Полиной. В школе ученики называли маму (в любой школе, где работала, она была любима не только как лучший историк) Верой Геннадьевной, в молодости лишь допущенные близко звали ее Гдальевной. А мне ужасно нравилось ее имя Вера, оно попадало в сопряжение с ее консервативностью, честностью, прямотой (и острым языком) и надежностью, невозможностью предательства. Поэтому позднее я был вдвойне рад, что именины матери совпали с именинами (и близостью образа) жены – Любови…
Возвращаясь к мировой культуре, обязан сказать, что гимназист Гдаль Трипольский, чудом уцелевший от знаменитого деникинского погрома в родной Белой Церкви, после прихода красных был мобилизован в армию и в обозе чапаевской (уже без Чапаева) дивизии дошел до Польши. И после гражданской, как демобилизованный боец, несмотря на мелкобуржуазное происхождение, был принят в Киевский институт восточных языков. Получил шанс продолжить после гимназии приобщение к мировой культуре. Но до диплома не доучился. Мама потом как-то заглянула в его трудовую книжку – десятки записей.
Наверное, я от него унаследовал легкое отношение к месту работы при умении уходить, не ссорясь. Он всегда был душой компании, любимцем женщин, но никогда не страдал постоянством. Какие у него были фундаментальные знания и таланты, я не знаю, но не встречал человека, не признававшего его интеллигентности. То, что он одно время был снабженцем кондитерской фабрики, позже спасло семью от украинского голодомора начала тридцатых (на фабрике выдавали шоколадный лом). Дед Гдаль был атеистом, как все в том кружке киевской технической молодежи, совсем забыл о своем происхождении, а ведь даже сама его фамилия указывала, что он из рода Трипольских цадиков – духовных вождей хасидской общины.
Триполье – такое большое село под Киевом, где археологи раскопали неолитические поселения далеких тысячелетий. Сейчас сторонники украинской самостийности выводят из этой трипольской культуры истоки украинской нации, потихонечку в музей и на раскопки начинается паломничество. Раньше, до раскопок, ходили евреи – поклониться могиле моего предка. А потом, в гражданскую, там вырезали комсомольскую организацию. То ли белые, то ли петлюровцы. Историю с предшественниками «Молодой гвардии» назвали Трипольской трагедией. Отец, снижая накал маминых претензий по поводу всегдашних поздних приходов с работы, говорил: «Трипольская, ты – трагедия!». Мама фамилии не сменила, как и все женщины в нашей семье.
Временно вернувшись из эвакуации, мама жила на попечении сестер отца Сони и Ханы, но из теток заработок имела лишь служившая в аптеке Соня, на одну рабочую карточку троим было голодно. Из разрушенного Киева мама ездила в поселок Буча, рядом. Вместе с родственниками своей родной матери работала в совхозе, вместе с подружками заглядывала в церковь и пела украинские песни. В свои семнадцать лет из-за войны, бездомья, долгой болезни и смерти матери она оказалась оторванной от бытовой родовой культуры. Уже потом, опять в Оренбурге, научилась у эвакуированных знакомых, сестер Евгении Самойловны и Марии Самойловны, готовить по-еврейски.
Украинские борщи, белорусские драники и русские оладьи встречались на нашем столе чаще, чем фаршированная щука или кисло-сладкое жаркое – любимое мною блюдо бабушки Полины Давидовны. Разве что пристрастие к куриному бульону выдавало в матери еврейскую хозяйку. Бульон варился, правда, не из курицы. Из потрошка, купленного для меня, когда я стал часто болеть, на рынке за копейки. А уж если покупали в дни денежных удач целую курицу, то готовили «шейку» – фаршировали шкурку мукой и шкварками, зашивали суровой ниткой и бросали в бульон. Это даже я умею.
Идеальной хозяйкой мне казалась мачеха матери, Мирра Марковна, которую я считал и называл киевской бабушкой. Ее вареники с вишнями и жаркое из лисичек в оренбургских воспоминаниях о киевском лете представлялись мне верхом возможного. А ведь еще была ножная швейная машинка «Зингер», сидя за которой бабушка строчила платья маме и брюки – клиентам. Я тогда не понимал, что «Зингер» этот спас ей жизнь. И дело не только в деньгах на прокорм. Потом-то у нее была неплохая пенсия старой большевички.
Она вступила в партию в мае 1917-го, была на «ты» со всеми украинскими вождями: Постышевым, Артемом, Косиором. Но перед войной, когда их, как пену с варенья, сняли сталинской шумовкой, она уцелела. Потому что после бурной гражданской войны, когда ей довелось, работая в екатеринославском подполье, открывать проход воинству союзного красным Махно (этот эпизод даже воплощен в кино «Александр Пархоменко», помните, в котором Раневская – в другом, не бабушкином эпизоде – с папиросой поет? Бабушка, кстати, тоже курила), она перешла на мирные рельсы. Руководила швейным профсоюзом. На пике репрессий погибли два ее брата, одного просто расстреляли, другой, журналист, решил отстреливаться, когда за ним пришли. А она просто ушла с руководящего поста – шить. Чтобы жить. И «Зингер» уберег ее от Сталина, в ее продукции оказались заинтересованы те, кто запросто мог отправить ее вслед за братьями. Хотя, может быть, дело в том, что те старики, кого я встречал в ее доме много лет спустя, накануне войны не назвали ее имени на допросах – сберегли общую любимицу, не взяли ее с собой в лагеря.
Сейчас она для меня – загадка. Что она на самом деле думала, слушая речи молодых спустя пару месяцев после ХХ съезда, глядя своими серыми глазами поверх очков на неродного внука, похожего на любимого умершего мужа? Помню только ее присказку, повторявшуюся после моей очередной шкоды: «О ты турок…». Я вообще не могу подробно говорить о переживаниях реальных людей, которых видел в раннем, направленном в основном на себя, детстве. Поэтому многих только называю, или перечисляю факты их биографии, которые хоть что-то помогают мне объяснить во мне.
Но есть одно переживание, о котором говорила сама мама. Правда, не мне, а сестре, спустя почти сорок лет. Когда она в 56-м году вернулась после летних киевских каникул в свой полуподвал, то увидела свежепокрашенный пол! Пока мы все были дома, с ремонтом не получалось: некуда было даже временно переехать. А стены, особенно выходившие на угол дома, были покрыты изморозью, с ней и печка не справлялась. А некрашеный пол приходилось скоблить, а не мыть. И вот отец в наше отсутствие исполнил ее маленькую мечту. Он стоял, окруженный сиянием свежего света, наведенного им собственноручно, и блестели его черные прямые волосы, зачесанные назад, и блестели стекла в черной круглой оправе!..
5.
Я хорошо запомнил 56-й год. Нет, не из-за съезда партии, а поездку в Киев, да и вообще время пришло что-то закладывать в память. Вырос. А тут как раз пошли всякие события. Во-первых, переехали в другую, гораздо более комфортную коммуналку – на соседней улице, на второй этаж, напротив почтамта. Там даже уборная была на этаже, а не во дворе, и стойки для ног вокруг дырок в полу для этого самого дела не деревянные, а железные! И печка в комнате – не чета прежней, а круглая, обшитая железом.
Только недавно Лена рассказала со слов матери, что деньги на такой неравноценный обмен дала Мирра Марковна. Она своим «Зингером» заработала на хороший памятник деду, хотела хоть как-то снять ту боль, которая загнала ее после его смерти в нервную клинику. А потом подумала – и на киевском Байковом кладбище поставила памятник чуть скромнее, около него я ее потом и сфотографировал. Разницу между памятниками в деньгах она отправила маме.
Во-вторых, меня послали в летний лагерь от военного детсада. Сад я не любил, особенно когда меня оставляли на круглосуточную вахту, забирали только на воскресенье, тогда выходной день был один в неделе. До сих пор не простил ночную нянечку, которая, видите ли, накричала на меня, когда я, прыгая на брезентовой раскладушке, натянутой на деревянные козлы (наши детские кроватки тоже принадлежали военному ведомству) порвал ее и провалился к деревянным устоям. После чего меня на ночь больше не оставляли, да и вообще редко водили – когда был здоров.
А вот в лагере я отличился крупнее. К тому времени я уже и гвоздь в стопу принимал, и ангинами болел, и воспалением легких, и корью. И скарлатиной, и коклюшем. Но в 56-м году на СССР накатил первый вал вирусного гриппа, позже называвшегося «гонконгским». Как же было его не принять на свою грудь, ослабленную полуподвалом – с инеем по углам! Только вот получилось не просто, а сюжетно.
Я влюбился в Эллу – дочку лагерного врача-майора. Она вроде бы и не смотрела на меня из песочницы, но ее светло-карие глаза были такими выпуклыми, что видели и сбоку, сквозь щеточки ресниц… Конечно, я и близко к ней не подходил. Издалека чувствовал. Наверное, и она флюиды воспринимала. А еще я почувствовал, что знакомый мне по городу Борька тоже к Элле неравнодушен. Почему-то мне казалось, что у меня больше прав на внимание к Эллочке. По этому поводу мы с ним почти с остервенением стали делить какое-то найденное бревнышко, этакую мини-оглоблю. Зачем она нам нужна была – не помню. Зато помню, как Борька, почуяв, что я вырываю оглоблю из его рук, дернул палку – и я получил перелом носа. Глаз заплыл, пару дней маме не могли обещать, что я буду им видеть.
А потом началась какая-то горячка, в изоляторе мне намеряли температуру за 40 – с меня в лагере началась та знаменитая эпидемия. И врач, Эллочкин отец, вызвал отца моего. На армейском санитарном фургоне (как я был горд сквозь температуру этой поездкой на высокой, с большими колесами, машине!) меня увезли в город, маме на руки. Повезло, остался жив – в лагерном изоляторе несколько детей умерло.
С тех пор, кстати, я почти не влюблялся в евреек. Только в восьмом уже классе, в каникулы, тоже приметил девочку с густыми ресницами, ходил и повторял: «Я идолопоклонник, я поклоняюсь Иде…», одни из первых моих любовных стихов. Даже дома один раз у нее был, что и заставило быстро разочароваться – атмосфера не понравилась. И совсем не думал, что мою родную бабушку звали Ида. И мою первую сестру. А позже, глядя на страстную шумность нашей домашней жизни, дал себе клятву, что никогда не женюсь на еврейке.
Конечно, маленький ребенок в семье больше общается с женщинами. И перенимает их взгляд на распределение семейных обязанностей, на ценность тех или иных трудовых свершений, принимает их сторону в мелких семейных конфликтах, их глазами определяет – мелкие они или нет. Я видел тяжкие хлопоты мамы и бабушки в коммунальных квартирах без удобств, поэтому их призывы о помощи к папе и дедушке были для меня весомее оправданий занимавшихся чем-то вне дома мужчин (даже если они считали нужным оправдываться).
Но само обилие претензий, их, не имевшее развития ежедневное повторение, неожиданно заставили ощутить покушение на свободу. Привели к мужской солидарности, тем более, что претензии появились и ко мне. Моя лень, шкодливость и упрямство (Ленка дразнила, переделывая детский стишок: «Осик был сегодня зол, он узнал, что он осел») и открытая эмоциональность мамы не могли не столкнуться. Пару раз мне перепадало и веником. Правда, позднее я заметил и в дальнейшем применял сознательно один обезоруживавший прием: надо было, зная повод для гнева, успеть сострить. По делу, а не абстрактно, взглянуть на ситуацию со стороны, как бы показать свою объективность (и независимость от собственного дурного поступка). Вот тогда складки на лбу разглаживались, мама фыркала, глаза снова сияли, она крутила головой, смеясь.
Ежедневные громкие голоса заставили меня присмотреться к отношениям в соседских семьях, где жены были менее эмансипированы или более сдержаны. Или не так последовательны и безупречны сами. И побудили сделать выводы. Я понял (на бессловесном тогда уровне), что любая культура не переборет врожденного темперамента, что мой темперамент – такой же, как у мамы. Значит, та, кого я буду видеть рядом всю совместную жизнь, должна быть в корне другой. Впрочем, такие нонконформистские ощущения появились у меня гораздо позже 56-го освободительного года, а тогда я был счастлив, что благодаря «Гонконгу» вновь оказался в центре всепоглощающего внимания мамы.
Даже папа на нее за это обижался. Как-то, возвращаясь поздно с очередного успешного шашечного турнира с выигранным подстаканником в бархатном футляре (а он на провинциальном уровне играл очень хорошо, был чемпионом и республик, и областей), отец на кураже спешил и маму порадовать. Но входная дверь в двухэтажную коммуналку оказалась запертой – заигрались шашисты допоздна. Тогда отец залез на выступ котельной напротив нашего окна на втором этаже и стал пытаться обратить на себя внимание мамы, которая за окном укладывала и поила лекарствами детей. Мама, глядя прямо на него, никак не реагировала, приветственных жестов не делала, вниз к двери – открывать победителю! – не спешила, не говоря уже о воздушных поцелуях в сторону окна. Отец жутко обиделся, возомнил, что мама не хочет его пускать домой, а мать, со свойственной ей иногда рациональностью, потом объяснила, что если смотреть со света в темноту (а приходи раньше!), находящегося за окном не видно.
Кроме основополагающего вышеупомянутого вывода – насчет женитьбы, я приучил себя мыть посуду или пол (что гораздо реже), готовить (что угодно, лишь бы объяснили – письменно или устно – как) и ходить на рынок или в магазин. Зато гвоздь вбить или там палочку обстругать – сплошные мучения. Что значит отсутствие достойного примера в период активного импринтинга!
6.
Однако, под влиянием стойких женских жалоб, я даже пытался советовать бабушке развестись с дедом. Очевидно, после очередной перепалки на невнятном мне языке, сверкания глазами деда, его резкого ухода – схватил шляпу в дырочках, нахлобучил на бритую голову, сунул под мышку палку с гнутой ручкой и побежал, – бабушка мне перевела суть разногласий. Она просила его что-то сделать для дома, а он спешил на собрание эсперантистов. Или на серьезный разговор с активистами еврейской общины Оренбурга – в ней Самуил Ефимович был диссидентом (очевидно, большим сионистом, чем официальное руководство, и меньше склонным по любому пустяку прислушиваться к властям, а заодно и к утвержденным ими руководителям). Или на репетицию в окружной Дом офицеров – дед играл в самодеятельном «Клопе» Маяковского, попал даже на фотографию, которую в качестве иллюстрации всенародной любви к лучшему революционному поэту поместили в 11 том собрания сочинений.
Такие вот интересы были у бухгалтера на пенсии. До пенсии дед успел главное – сходить пешком в Палестину. Он и в девятнадцать лет не слишком интересовался бытом, включая дела на молочной ферме и в лавке, торговавшей продукцией фермы. Это все он оставил на двух незамужних сестер. А сам с приятелем в начале прошлого века отправился навестить святые места, приятель остался основывать Израиль, а дед вернулся.
После чего, уже не юный, потеряв после гражданской и погромов и лавочку, и гипотетическую возможность какой-либо частной собственности, женился на молоденькой Песе Рабинович и переехал из голодной Умани в Одессу. Где и устроился бухгалтером в пригородном совхозе (все-таки лавочка-то была молочной). Вот и сложилась одесская семья: Поля, Миля и Додик. (Господи, как меня раздражала эта юго-восточная любовь к ласковым суффиксам! Даже мама мужа могла называть «мусик», а иронию – или любовную игру – я не чувствовал. И собственное имя нравилось сокращенным на русский лад: Ося, Йося, даже Ёся).
А Поля Рабинович, прежде чем Миля стал ее так называть, тоже побывала в жерновах истории. Ее отца-лесничего в 1918 году подняли на вилы воодушевленные приходом казаков крестьяне, которым он, жидовская морда и господский холуй, еще при царе не позволял вырубать лес. После чего Поля осталась старшей и была вынуждена кормить братьев, зарабатывая ремеслом холодного сапожника. Но кормить не всех – следующий за ней 16-летний Яша исчез из городка.
Однажды, когда у юной бабушки был полон рот гвоздей, прибежали с улицы: «Бросай эти сапоги! Там твой Яша – главный красный командир!». И действительно: на белом коне под красным знаменем в Умань впереди бригады Котовского торжественно въезжал Яша Рабинович. Главным, конечно, он не был – он был ординарцем Котовского. И тоже, как Мирра Марковна, вошел в киноверсию советской истории: в подзабытом фильме «Котовский» есть одна реплика, которая одна из него и осталась. По крайней мере, мои сверстники еще помнят: «Как постричь? Под Котовского!» – и рукой потом по гладковыбритой голове. Так вот, спрашивал и брил Григория Ивановича ординарец. То есть Яша.
Григорий Иванович, как правильный пахан, после успешных боевых действий обеспечил соратников. Крестьянскую массу посадил на жирную землю под Одессой, на краю родной Бесарабии, организовав первые совхозы, а заодно, в будущем – и проблему Приднестровья. Потомки членов его бригады не потеряли буйного нрава предков и не согласились считаться простыми молдаванами.
Многие получили от него подарки. Ординарцу он подарил какой-то особенный буржуйский стол, который тот, уезжая из Одессы, передал семье Поли. Он до сих пор стоит (по крайней мере, лет пятнадцать назад стоял, я видел) в главной комнате квартиры на Греческой улице, дом 42 (она успела побывать улицей Либкнехта), рядом с «Детским миром». Эта квартира – и есть детский мир моего отца, вместе с футболом и шахматами. За прошедшие бурные годы стол этот не вынесли – он огромен, в нынешние двери не пролезает – и даже не раскурочили.
Тех же из своего войска, кто выказал армейскую сметку, Котовский определил в академии. Яша Рабинович после академии Генштаба, где он учился у Карбышева, стал большим начальником. Бабушка украдкой показывала его портрет с ромбами на воротничке. Украдкой – потому что Якова Рабиновича, в звании комбрига командовавшего инженерными войсками Ленинградского округа (а их тогда всего четыре было, и Ленинградский строил «Севморпуть»), в 1938 году репрессировали. Умер он во время войны в казахстанской ссылке, никто из его родных с ним и его репрессированной семьей связи не поддерживал. Боялись.
По крайней мере, бабушка и ее самый младший брат Фроим хоть фамилии не меняли. А сын старшего брата, чтобы попасть в КБ Лавочкина, сменил. Лавочкин и сам-то был еврей, поэтому на фирме следили за процентным содержанием некристально-чистых, вдруг они авиационные (а потом уже и космические) секреты врагам передадут. Молодой Рабинович взял фамилию не русской матери, а жены. И стал Лакеев.
… Пока бабушка все это в очередной раз рассказывала, пришел дед. Он всегда прибегал и убегал по часам. В какие-то непонятные мне дни спешил к молитве. Покрывал голову платком, похожим на белую тонкую шаль (но не оренбургскую паутинку!), опускался на колени перед столом (в их восьмиметровой комнате, перестроенной из больничного коридора, больше негде было) и то шептал, то пел на непонятном языке. Иногда в его молитве я слышал слово «Йоселе».
Он пытался меня учить этому языку и этому имени, но мне было как-то неловко, а в основном – лень делать то, что мне заранее неинтересно. Дед, наверное, был не слишком умелым педагогом, учил так, как его когда-то в хедере, увлечь не умел – слишком я был далеко от него по интересам, хорошие учителя умеют сопереживать своим ученикам. Оставалась строгость, но не очень суровая – сверкание глазами, без подзатыльников. В памяти сохранились только смешные словечки, которыми наиболее часто обменивались Поля с Милей: «амушл-капушл», «агицн паровоз», «шлемазл». Правда, слова эти из идиша, на котором дедушка и бабушка разговаривали в быту. А дед хотел научить меня письменному ивриту. Но из всех уроков я запомнил две-три буквы.
Эти буквы я потом узнавал на марках, которыми были обклеены свернутые в бандерольные трубочки израильские газеты, и на самих газетных страницах. Боже мой, как переживала мать из-за этих бандеролей! Она боялась, что папа потеряет партбилет, полученный на фронте, и работу (а то и посадят!) из-за своего сионистского отца. А деда при всех семейных радостях не оставляла тревога: как там в Израиле?
Чаще всего дед прибегал домой, тяжело дыша, потому что наступало время радиосеанса. На его «Балтике» (1955 года выпуска, она и сейчас жива) шкалу оберегала от света картонная заставка, на которую дед нанес расписание времени и частот «Голоса Израиля», «Свободы», «Би-Би-Си» и прочих вражьих голосов. Зачем он берег шкалу от света и не разрешал вытирать пыль на приемнике – я не понимал и повзрослев, даже тогда, когда сам в армии служил радистом…Выли глушилки, а он, на ходу успев только шляпу снять, не ослабив еще ремень, стеснявший его обширный живот, вслушивался в слова, пробивавшиеся сквозь вой. Я унаследовал от него эту веру в значимость слова, любовь к всемирной эфирности. Эту страсть к свободе информации мать проклинала чаще всего, а бабушка лишь отпускала скептические реплики. Его интересовал не один Израиль, у него было собственное мнение по всем международным событиям. Дед был странным гибридом сиониста-космополита, воплощенный жупел советской пропаганды.
Неудивительно – он ведь был апологетом международного языка, писал на нем, переводил разные книги. Довольно известным авторитетом в пестрой среде эсперантистов. Да и не их одних, как оказалось! Тихо-тихо, никого не спросясь, он написал письмо Мао Цзе-дуну, в котором предложил ускорить культурную революцию. Поскольку это было до известной кампании Мао, то можно считать, что дед Гальперин что-то подсказал… Ну вот, письмо с предложением ввести элементарное эсперанто вместо трудных неграмотным массам иероглифов пришло в Пекин. Его встретили без смеха, с опаской – вдруг Старший брат санкционировал предложение?! И ответили: мысль интересная, будем ее думать, а Гальперину – большое спасибо за заботу о младшем брате.
Дед и меня пытался научить языку всемирного братства. Через пень-колоду я выполнял задания до тех пор, пока он не сказал мне, что ружье по-ихнему «пифо». «А стрельба – пафо?» – спросил я, откровенно смеясь. Дед махнул рукой и больше не приставал, а я продолжал разглядывать конверты из разных стран, на которых обязательно где-нибудь стояла зеленая звезда. Дед и сам штемпелевал такие, отправляя свои послания. У него была даже специальная подушечка и пузырек с зелеными чернилами…
Интерес к международным событиям приводил его осенью 56-го к фотовитринам, он и меня к ним брал, когда мы гуляли. Все остальное, о чем я выше написал в этой главке, не обязательно относилось к тому году, просто начиная с него я стал больше запоминать. Но фотовитрины – это точно я видел шестилетним. На них были «венгерские события»: повешенные люди, дымящиеся дула танков… И еще я запомнил разговоры про Гамаль Абдель Насера, Суэцкий канал и войну на востоке. После нее какое-то время перестали приходить бандероли с газетами.
7.
Что дед в это время думал – загадка, несмотря на внешние признаки пристрастий. Конечно, он гордился успехами израильской армии, но в то же время не мог не связывать «империалистическую агрессию против прогрессивного Египта» с попыткой антикоммунистического восстания в Венгрии. А он ведь не только в «Клопе» играл, он и революционные стихи Маяковского любил читать со сцены. И вообще был явно антибуржуазен, хотя все грехи Советской власти познал на себе. А газету из Израиля получал коммунистическую, читал про достижения кибуцев. Повстанцев, вешавших вниз головой тайных агентов венгерского КГБ, он, насколько я помню, осуждал. Но по радио внимательно слушал все сообщения о зверствах советских оккупантов. Очевидно, он был так же раздвоен, как младшие по отношению к нему «шестидесятники», дети ХХ съезда (и его собственные дети), клявшиеся в верности Ленину и проклинавшие Сталина.
«Кем бы мы были, если бы не революция? – позже объясняла мне мама. – Разве могли евреи в черте оседлости мечтать о таком образовании?» (не напоминая мне о своем отце, который сумел, сбежав из дома, до революции окончить гимназию на собственные заработанные деньги). Она гордилась мачехой, тем, что евреев среди революционеров было непропорционально много.
В глубине души, я сейчас думаю, она просто сочувствовала любым активным людям, видя в них проявление творческого начала. Хотя сама была очень осторожной. Довольно поздно, когда ей было за сорок, она вступила в партию – ведь обществоведение же преподавала, вот и очередь в райкоме подошла. До того, правда, сама считала, что занятость семьей не позволит ей быть активным коммунистом. И сохранила верность поздно оформленным убеждениям (скорее – вере в справедливость) до конца, до смерти, в противовес отцу. Который в согласии со мной в последние годы стал ярым демократом – уже из своего чувства справедливости, выращенного за десятилетия общения с партийным руководством журналистики. Хотя начатки антитоталитарного воспитания я получил именно от мамы, гораздо более откровенной при детях, чем отец.



