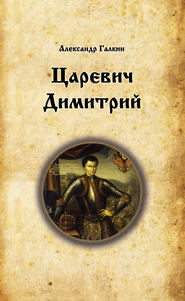
Полная версия:
Царевич Димитрий
Однако, благодаря влиятельности этого дома в Москве, с ним всё же приходилось церемониться и считаться: его нельзя было истребить, как многих других – сразу же по разоблачении, – и надо было до времени потерпеть, подождать прямого повода к преследованию. От Романовых царь постоянно мог ждать всего самого злого и коварного, что только смогут измыслить хитрый разум их, зависть и крепкая воля. И, конечно, не складывал оружия в борьбе с крамольным домом, а, неустанно за ним наблюдая, искал случая придраться к чему-нибудь, обвинить в колдовстве и погубить. Понимали это и Романовы, держали себя тише воды, ниже травы, кланялись земно, со стуком явственным, льстили в глаза и заочно, распинались в самоуничижении, вымаливая царских милостей и не получая их.
Фёдор Никитич, отозванный царем из Псковского воеводства, уже более года жил в Москве, не имея никакой государственной должности и постепенно теряя когда-то немалое своё влияние среди служилого дворянства и торговых людей. Беда неминучая нависла над его домом и заставляла принять меры: все крупные ценности исподволь вывозились со двора в надёжные места, уничтожена была переписка, заперты все входы в дом, зажжены во всех углах неугасимые лампады, обдуманы ответы на возможных допросах и т. п. Романовы теперь чаще прежнего ходили в церковь, давали денег на монастыри, сменили роскошные одежды на скромные, избегали гостей и редко бывали у кого-либо: боярский холодок – результат царской немилости – не располагал к посещениям. Но бывая ежедневно в кремле и высиживая там, в приёмных, положенные часы, обмениваясь словечком со служилой братьей, прислушиваясь к разговорам, Фёдор Романов был всё-таки в курсе правительственной жизни, разных новостей и сплетен.
В больших, тёплых, устланных коврами и обставленных мягкими лавками дворцовых сенях, служивших преддверием к приёмным комнатам, в утренний час, до царского выхода, собиралось иной раз довольно много людей, ожидающих допущения к царю или к кому-либо из ближних его бояр. Негромкий говорок, молитвенный вздох, сдержанный смех всё время наполняли комнату, прерываясь на минуту с появлением стольника, вызывавшего того или другого во внутренние покои; тут всегда можно было услышать последние новости и вести отовсюду.
– Да, отче, – говорил высоким, слышным тенорком думный дьяк стоящему у окна протопопу Успенского собора, – слухов всяких немало у нас ходит На всякий роток не накинешь платок! Наплевать! Вот, к примеру, каку нелепость вчера довелося слышать: будто где-то на Москве некий человек скрывается, похожий на покойного царевича Дмитрея углицкого, как едина кровь бывает. И ведаешь ли, кто говорил?..
Но тут он понизил голос, и Романов не мог расслышать.
Обернувшись, дьяк заметил Фёдора Никитича и, как показалось последнему, жутко взглянул на него, прекратив разговор, а протопоп затем прошёл мимо не поздоровавшись. Фёдор расстроился и хотел сейчас же пойти к Спасу на Бору (в двух шагах от царского крыльца), помолиться у мощей святителя Степана Пермского – целителя душевных недугов, как увидел подходившего к нему боярина Пушкина, недавно прибывшего из-за границы, и обрадовался ему. Нестарый ещё щеголь, известный своей книжностью, вольнодумством и балагурством, когда-то очень дружил с Романовым, но затем они несколько лет не виделись, и теперь Фёдору очень понравилось, что тот узнал его и первый к нему подошёл.
– Здрав буди, боярин! – сказал Пушкин, кланяясь с приветом.
– Вот то негаданно! Гаврила Иваныч! Вот утешил! – И они расцеловались.
– Ожидаешь здесь по докуке, Федор Никитич?
– Нет, просто я тут как всегда.
– Отъедем вместе – пора уж и расходиться. Да может, ко мне пожаловать не брезгнёшь? Хоть и не устроена ещё хоромина то моя. Рад буду – давно не виделись.
Беседуя о повседневности, они не торопясь доехали верхами до пушкинского дома на Ильинке, недалеко от Красной площади. В горницах его чувствовались некоторый беспорядок и суета – видимо, шла большая уборка.
– Видишь ли, – пояснил хозяин, – никак не кончат эту толкотню – нежданно яз приехал-то! Чистят, гладят, заново гадят! В своём дому укрыши не найду! Пойдём в моленную – туда не войдут.
В небольшой комнате – моленной – передний угол до половины обеих стен занимали старые иконы с многочисленными лампадами и покрытый чёрным бархатом аналой перед ними, а задний – красивая печка из цветных, узорчатых изразцов с лежанкою.
В сумрачном свете маленького слюдяного окошечка не сразу различались шкафчик с книгами, кресты по стенам – медные и деревянные резные, полочка с восковыми свечами и кадильницей, два жестких дубовых кресла с привязанными к ним подушками, пестрядины на полу и пуховый коврик для стояния на коленях.
Было душно, пахло ладаном и пылью.
– Се дедовское, – сказал Пушкин, – яз николи в свято место сие бывати не удосужусь. Туто нас не услышат, да токмо вина сюда требовать, говорят, негоже.
– Что ты, друже! Кто же будет вино пить пред ликами? Задернуть бы их не худо, речей наших ради!
– Сего не мыслю, Фёдор Никитич: не богохульствовать будем, а о правде речь вести. Слыхал я про дела твои – не знатно творится: бают, не любит он тебя, не прощает, но боится и терпит до часу. Берегчись надо. Да и у меня, смотри, не лучше: вот уж больше недели как приехал, хожу на верхушку, приема нет, толку не добьюся, зубоскалюсь с подьячими, челядью всякой, а глядят косо.
– Задобрить нужно. Аль забыл норовы наши: суха ложка рот дерёт!
– То верно, да люди там все новые, не знаешь, к кому подступиться.
– Ну, нам, тутошним, сие до конца известно. Дай дьяку посольскому Ильюшке Синее Ухо, мерзавцу хитрому, тридесять Рублёв да Ондрею Щелкалову, соседу твоему по вотчине, что на Пахре, рощицей малой поклонись, она ему дюже сходна будет – строиться там хочет, а лесу нет у него. Ещё Настасье – игуменье Вознесенской (сука тож злонравная!) – на монастырь дай пол ста и боле – сколь сама укажет: весьма близка она к царице Марье Григорьевне и многомочна стала теперь. Первее же всего Семёну Годунову покланяйся с почтением примерным, назови его вельможею великим, и расскажи ты ему, что слышал ныне в сенях царских, како дьяк думный Микита Голощёк попу успенскому рек, будто на Москве некий вор явился, похожий лицом на царевича Дмитрея…
– Как говоришь? Димитрия?
– Без сумненья буди, Гаврила Иванович, не подведу тебя! Яз ушами своими там сие слышал, до того, как ты, подошел ко мне, здравился. Протопопа же и дьяка, чаю, и сам ты приметил.
– У окна стояли? Видел. И сие они баяли?
– Так, друже. Дьяк сказывал тоже, и от кого знает про диво то, да не расслышал. Годунову же сие любо станет. И подачки Миките давать посему не след, ибо ежли козни чинить учнёт, то наветам его на тебя мало веры дадут.
– Спасибо, Фёдор Никитич, на добром совете – век должником твоим был и пребуду. А скажи ты мне, где сирота тот, что, помнишь, из Ярославля привезли, – сходственный с царевичем убитым? Записали его тогда словно бы сыном дворянина какого-то? Не Отрепьева ли?
– Его, имянно.
– Так не про того ли сходича разговор ты слышал?
– Бог ведает, друже, – може, и про него. Яз не впервой таки вести слышу.
– Скрываешь от меня? Ты забыл, боярин, что яз первый тогда сию затею тебе изъяснил, ещё до углицкого дела, а ныне ты от меня таишься! Обижаешь не по вине. Мы здесь одни, и стены сей моленной нашей тайны не выдадут. Яз и домой устремился, дабы говорить с тобою про сего отрока, ибо во всяко время желаю весть о нём имети. Не спрашиваю тебя, на чьём дворе живёт он, чей хлеб ест, а знать хочу – надёжно ли закутан? И каки делы вы дале с ним сотворите?
– Не гневайся, государь мой, – молчаливы стали мы на Москве, но тебе, друже, верю и люблю тебя! Хоронится он в месте добре, да где ныне такое место на Руси, куда не сягнули бы очи Борисовы! Боюся, скоро не сможем оберегать его.
– А како взращён есть? Грамоту разумеет?
– Изрядно. И понятлив не по летам. Чтит себя царевичем, но держит то в сердце своём, на людях же весьма сокрытен. Проживает в бедности и худобе. Теперь уже взрослый и на царя Ивана лицом походит.
– Почто же здесь его держите? И с друзьями верными совета о сём не ведёте? Разве одни вы, Романовы, подпору в сём отроке зрите, а не все мы, ненавистники Борисовы, и середь них яз – первый?
– Да, тебя тоже не забыли в обидах, и дядю твоего не обошли. Хоть и не крепко, а всё же толконули охабнь подьячие. Совета твоего дружеска весьма хочу.
– Не крепко, говоришь? А как же крепче, коли дядя не знает, куда деваться от сраму и стыда после царского слова, как без вины честил его перед всеми, ослом вислоухим называл и на шубу ему плюнул! Отъехал тогда дядя на свою Подмосковную и с самого Покрова глаз сюда не кажет. Да и не мы одни в обиде. А Толмачевы? Сицкие князья? Репнины? И другие многие за что униженье несут? А за то, что не захотели тогда Бориса на престоле видети. Теперь токмо и жди – не ныне, так завтра – опалы вечной иль пагубы по холопскому доносу Землицу отымут и дьякам своим верным да дворянам бездомным в жалованье раздадут: псы алчные давно сей подачки ждут!
– Уж со многими так учинили!
– Оно и выгодно: на награду-то тратиться не надо, и от нас избавиться можно. Чует он, каки мы друзья ему, и глядит за нами зорко! Нам тоже укрепляться надо сколь можем. В таку пору царевич нам вельми нужен. Ты послушай меня, боярин: необходимо отправить молодца в Литву.
– Ну, теперь, когда ты откровенно всё изрек, раскрою и яз тебе свою душу, Гаврила Иванович. Сам хотел говорить с тобою о нём, потому и к тебе пошёл – просить помощи твоей в трудном деле сём: ты земли те ведаешь и путь укажешь. Верно ты сказал: на Москве оставлять его боле невозможно, про то и толковать нечего. Може, с собой его возьмёшь, коли опять поедешь? Токмо лучше бы не в Литву, а в Киев, на степь его отправить.
– Неизвестно мне, поеду ли и когда сие сбудется. Можа, год просижу в доме сём и боле. А почему его в Киев?
– Дружбу имею там старую и верную, да и ведомость оттоле получаю. Много там наших смердов скопилося – беглых, тягловых, чёрных, многие тысячи, а земли гожей не хватает на всех, и идёт пря великая за устроительство. Скудости ради земельной не сидят тягловые на местах, а ножами на дорогах хлеб добывают. Разбой и неуряды идут повсеместно, родят смуту, властей трясение, и нет устою. Много народу хотят со степи домой вернуться, но боязно, да и ничего не получишь, коли вернешься. А вот ежли бы там появился царевич Дмитрей, законный государь, да кликнул бы их походом на Москву, то, гляди, смерды двинулись бы. Тысячами пошли бы за его именем, и рать могутную привёл бы он сюда, на смерть Борису. В Литве же такого нет, и рати оттоле не поведёшь. То истинно есть!
– Сугубо внимал тебе, боярин: об украинских людишках и смутах ты верно судишь. Да токмо в них-то самых и есть вся опасность: царевич там голытьбу подымет, нищету беглую, и рать его, пришед на Москву, учнёт здесь бояр бить, земли наши имать, и будет то последнее зло горше первого.
– Без рати надежной и православной ничего не добьёмся, родной мой, без силы оружной царевич – не царевич. Сколь грозный мятеж замышляем – надо смелым быти! Смердов же бояться нечего – изрядно ведаем мы их, и коли посулим атаманам годуновские да щелкаловские вотчины, так молиться за нас будут. Недоимки старые простим, кабалы снимем и протчее. Да и Дмитрей нас не выдаст, беспокойство твоё зряшнее.
– Сила ратная и в Литве найдётся.
– Не спорю о сём, но то сила латынская, супротив веры нашей пойдёт – народ её не приемлет, да и король польский не даром войско пошлёт – лучшие грады имать станет и Москву полонить захочет. И та беда воистину будет нам худче иной всякой. Ты всё о ратном деле да об оружьи говоришь, государь мой, а не думаешь, как без того пройти. В Польше можно огласку царевичу на весь христианский мир учинить, а сие уже полдела. Поведется, что и без степи со врагом справимся: свои грады и посады выступят за Дмитрием, потому недовольных там много. Украинское же войско холопское может собиратися в подмогу без помехи, и на крайний худой конец царевичу отъехать в степь всегда досуг останется. Коли же творить вся сия с разумением, то гоже ли помощию короля небрежити? Да и легче будет в Польше ему самому усесться и скрываться до времени, нежели на Украине. Яз тоже радеть буду, ежли поеду. В степи же ныне таково хлюпко, что может он пропасть там от всякого лиха без призору.
– О сём яз поразмыслю, ибо потерять его не желаю. Спокою и надёжи на Литве, вестимо, боле. Поговорим о том ещё разок на досуге, теперь уходить домой надо – пора мне. Спасибо тебе, Гаврила Иванович, за совет, за ласку. Друзьями были и пребудем! Ох! чуть не забыл, стареет голова: берегися ты, дорогой мой, Плещеева боярина, Михаила Маркыча, не друг он тебе. Доносец на него след бы измыслить Щелкалову.
– Тебе боле того спасибо, Фёдор Никитич. Рад твоей дружбе и верен тебе был и буду без шаткости. А зачем сам ты на Литву не отъедешь? Непрочно здесь тебе, чаю, и сам видишь!
– Не могу: на кого брошу жену, чада, братьев моих? С собою всех не увезёшь! Погибнут без меня от руки его. Сам же яз не чую беды неизбывной. Ежели не откроют связи моей с Отрепьевым, то, може, выкручусь, авось мимо пронесёт! Сохрани, Пречистая! – Он перекрестился.
Они расстались.
Через несколько дней, когда Фёдор Никитич вместе с женою поздно вечером копался в своём подвале, укладывая в последний сундук остатки своих драгоценностей, чтобы отправить их в ту же ночь к знакомому попу – стороннику Романовых, к нему без доклада вбежал какой-то чернец, бросился к его ногам и заплакал.
– Чур меня, чур! – в ужасе вскричала боярыня, не рассмотревши в свете коптящего огарка бывшего своего воспитанника – Юшу.
Да и трудно было узнать в стоящем на коленях молодом монахе мальчика, когда-то жившего под их кровом.
В скверной, заплатанной рясе и такой же скуфье, с грязной повязкой на щеке, закрывающей половину лица, с немытыми руками, в лаптях, он походил скорее на бродягу, какие нередко встречаются на базарах и в кабаках.
– Батюшка! – вопил он. – Отец родной! Смилуйся! Не губи души позря, напрасно! Умереть лучше, чем тако жити!
– Царевич! Бог с тобою! С нами Пречистая! Успокойся, сказывай! – заговорили супруги, усаживая юношу на лавку и вытирая лицо его шёлковым платочком.
– Да что же мы здесь, внизу? Идем наверх! – воскликнула жена.
– Не, – возразил Фёдор, – тут лучше. А ты, Оксинья, иди и скоро найди ему кафтан суконный, не светлый, сапожи, шапку да охабень сермяжный и протчее, сюда неси. Да мешок татарской кожи, что в ларе кладен, захвати.
По уходе боярыни монах сообщил, что всё время очень страдал от запрещения Фёдора Никитича приходить к нему в дом и чувствовал себя заброшенным. Встретиться же было непременно нужно и поговорить о том, что делать дальше, ибо такая жизнь ему опротивела. Горько жалуясь на судьбу, он рассказал, как переменил несколько монастырей, а также имён, как везде встречался с вопросом о своём происхождении и косыми взглядами настоятелей и как дошёл до того, что уже не только расспросы, а и простой интерес других монахов к его прошлому казался ему соглядатайским сыском и лишал покоя.
Он уже отчаялся увидеть снова своих благодетелей, хотел бежать куда глаза глядят и приготовил для сего вот эту самую одежду, только суму не успел достать. Да вот в последнем месте, в Чудовом монастыре, где он жил в особой келье и занимался в покоях отца игумена перепиской старых книг, злая оказия вышла. Нынче утрева встретил он на дворе старика Мартына Сквалыгу, целовал его.
Мартын же рек: «Хучь ты и вырос, а всё же похож на царевича!» «Бог ведает, на кого аз похож, отче, может, и на царевича, – не зрю сего», – ответил Юрий и убежал в келью. Незадолго же до вечерни, когда он писал книги, то слышал через дверку, как к настоятелю приходил дьяк из приказа и спрашивал, не в сей ли обители хоронится вор, рекущий облыжно о сходстве своём с покойным Дмитреем-царевичем; как отец игумен учал клятися, что нет у него такого инока, и звал дьяка во храм к вечерне, дабы показать ему всю братию и выдать, кого пожелает. Тут и в колокол ударили к службе Божьей, архимандрит и дьяк ушли в церковь, а он немедля бежал в свою келью, переоделся скоро и вон из монастыря вышел. До ночи по улицам бродил, чтобы не заходить засветло в дом на Варварке.
– Забыл ты меня, боярин! И все вы бросили! Не зрю света очами, не ведаю, куда ходить. Нету сил моих боле! Не хочу быть царевичем, не вернуся к игумену никакому. Воля твоя, боярин, но чернецом боле не буду Простой яз человек отныне, и ежели не поможешь – иду, куда Господь укажет, токмо бо жить без тревоги и непрестанно о животе своём не дрожати!
– Не забыли тебя, царевич милый, неустанно мыслю о тебе. Не все монастыри-то ты назвал мне, где был, а яз тебе скажу и протчие, где спасался за годы те. – И Фёдор перечислил скитания Юрия, доказав, что следил за ним всё время. – Видим тебя, наш возлюбленный, воистину ты говоришь: времена пришли лихие, и надоба есть из монахов выйти и ехать чрез границу, на Литву.
Боярыня в это время принесла одежду.
– Надевай скорее, Дмитрей Иванович, и боле ты не чернец.
– Но како же туда поеду? В Литву!.. Столь далече! И таково всё нежданно!
– Про Литву всё обдумано, родной наш, иного нет исхода. Яз и сам хотел тебя звать из Чудова посля завтра. Хорошо, что пришёл ко мне, и медлить теперь уж нельзя. На рассвете трогай, и с Богом, в добрый путь! А видали ль тебя люди, когда шёл в калитку?
– Не ведаю, да и опознать меня нелегко с повязкою. Ярыжка, одначе, шмыгнул словно бы в переулке.
– Доглядели, проклятые! Дело худо. Ночевать здесь не можно тебе, милый, пропадёшь вотще, боюся и помыслить! Ехать нужно сей же час. Оксинья! – засуетился он. – Прикажи там пару коней уготовить, да торопко! Возьми сие, государь мой, он передал ему кожаный мешочек с червонцами, и ныне же в Новоград-Северский к дьякону Лексею Онуче – верный человек. Прошка его знает и тебя проводит. Оттоле же чтобы Онуча тебя спешно в Литву отправил глухими дорогами – у него там есть свои люди. И мне чтоб весть подал записью через Прошку.
– Потрапезовал бы, царевич, чем Бог послал, – сказала жена. – Можно и не ходить наверх – сюда принесём.
– Не мешай, Ивановна! Поди о конях пещися, чтоб всё добре было, да упомни – к седлам малые мешковины приладить с пищею на един день. Недосужно, батюшка, ужинать здесь – время бежит, а до свету тебе пригоже за градом быть. Прошка! – подойдя к двери, ведущей в сени, крикнул хозяин. – Идь сюда! Слухай: вот тебе грамотка приказная – хранил яз при себе на лих случай. Воротами езжайте Яузскими – Петька Окунь там стражу держит со стрельцы: ему покажешь сию грамоту – он пропустит. Дале вкружную пробирайтесь до Симонова – там через реку переправа есть, и в Гусятниках отдохнёте, коней покормите. Заутра отъехать вам на Чижи и на Калугу. Прошка! Друже! Молю тебя – храни царевича! Награду велию получишь!
– Готово всё, Фёдор Никитич, – сказала Оксинья, – и кони ждут.
– Ну, с Богом, государь Дмитрёй Иванович! Не поминай лихом, прости грехи! Воссядем перед дорогою. Во имя Отца и Сына…
Он перекрестил Юрия, поцеловал его, проводил на двор и посадил на лошадь. Два конных путника выехали через заднюю калитку в переулок и скрылись в ночной темноте.
На рассвете в доме был произведён обыск, после которого Фёдора Никитича арестовали и отвезли в Кремль, а на другой день были схвачены и все остальные братья Романовы. Их обвинили в колдовстве.
Тёплой летней ночью на берегу Днепра расположился вокруг потухающего костра десяток казаков, возвращавшихся на острова – в Сечь.
Они запоздали переправиться засветло и теперь сидели и лежали возле своих коней и несложных доспехов, негромко разговаривали на ломаном языке о безобразиях, чинимых польскими панами украинским хлопцам.
– Тут на хуторе, по шляху, як мы проехали, – гуторил не торопясь хохол, – баяли – жида учера зарезали.
– А как?
– А так: пировали паничи, да поссорились полек с нашим, и ударил полек его плеткой, а наш хватил полека кулаком по чубу, с ног сбил, а сам-то утёк, так другие полеки шинкаря саблями порубили.
– Жида не жаль – всех бы их, дьяволов!
– Я знал того жида, – заметил человек в белой свитке и красных сапожках, – добре был жид. Зимою помог мне с Гаврилой, что утонул потом, от панов укрыться. Не любил их: дочку у него свезли.
– А всё же они поганые!
– Може, оттого и зарубили, что хлопцев укрывал!
– Жаднюги они, деньги копят, – отозвался немолодой бородач в богатом шёлковом кафтане с золотыми нашивками, рваных портах и лаптях. – Но дело не в них. Чёрт с ними! Дело в панах вельможных, владыках тутошних, что кровушку нашу пьют. Правду говорил батька Наливайко, что доколе в корне их не изведём, не дышать нам вольно. Кабы помогли в ту нору Наливайке, так ныне ни едина князь-пана не осталось бы!
– Я тож с ним ходил, – сказала белая свитка, – отметина вишь осталась – шрам на щеке. Добре повоевали, попили винца хозяйского, погуляли с дивчинами.
– Може, опять пойдём?
– Не! Батьки нет такого – иттить ныне не с кем!
– Были бы хлопцы, а батька найдётся, – сказал молодой москаль в городской одежде.
– Такого не сыщешь! За нашим же кошевым не пойдут.
– Да, кошевой у нас токмо и делает, что горилку жрёт.
– Расскажи-ка, дядя Степан, про Наливайку! – попросил москаль. – Не забыл ещё?
– Ох, мил-друг, вспоминаю я Наливайку! Нету с нами Наливайки!.. Конь под ним татарский был, рыжий, ни у кого такого не было! И сабля в золотых ножнах. Уж Киев взяли тогда и дале пошли, да тут его положили, и всё пропало! Бывалче, как сядет на конь перед войском, да как гаркнет на всё поле: «Умрём за веру!» – так, почитай, в самом Киеве слышно было.
– А вот мне так наплевать, и всё равно – та вера, эта! – сказал громадный молдаванин, поправляя лапотные обертки и завязки, – Дело это поповское, я ж из простых. Сабля добрая да конь – вот моя вера! Боле ничего не знаю и знать не хочу. Попадусь – повесят беспременно, хучь молись, хучь нет.
– Польские ксендзы тоже наших бьют смертно.
– Немало туто крови пущено за веру, – вставил лежащий пожилой москаль, подымаясь на локоть, – не мене, чем на Москве, а смекаю – боле. И жизнь здесь не легче – одна слава, что воля, а коли хлеба нема, ножом промышляешь, – кака сия воля? Надоело! Двенадцать годов маюсь. Земли не добился, а что добился – отымали. Знатно бы теперь домой вертаться!
– Откуда ты?
– С Коломны, с Миколы Посошка монастырский хлебороб. Може, слыхивали – Микольский монастырь тамо? Да как вернёшься? Отец настоятель три шкуры спустит! Кол ему в брюхо! – И он непристойно выругался.
– Много вас здесь таких мотается!
– Да, не мало. Говаривал яз с ними, с людьми своими, – домой хотят дюже, да не идут, живут страха ради.
– А ежели бы, дядя, все вы, москали, поднялись да и пошли скопом? Гляди, не пужливо было бы, взяли бы своё!
– Думал о том, и други думали, да как собрать всех воедино? Велика земля сия, и людей многие тысячи – не сговоришься. Оттого и в Сечь пошёл – коня получил, жупан новый, и пища добрая. На руку ж яз крепок и в бою не последний.
– То ведаем, брате, не хвалися.
– Не хвалюсь, а правду баю. Надысь на берегу – отселе недалече – напали мы с Митькой на обоз жидовский о трёх ходах, с охраной польской. Так стражу ту начисто положили – яз сам троих взял, – потому не ждали они. Да ничего не добыли: кони-то ихни пальбы спужались, бросились со шляху прямо на обрыв, к реке и затонули с ходами, с клажей. Ну, мы и ляхов туда же скинули, а жиды разбежались. Всё же единого яз стегнул плёткой по роже.
Так, сидя за кустами, в сотне шагов от большой дороги, проболтали они до рассвета и, когда утренний ветерок разогнал туман над рекою, приготовились к переправе, но неожиданно услышали крики.
– На конь! – скомандовал старший, вскакивая в седло.
Они быстро подъехали почти к самому шляху и наблюдали, оставаясь невидимыми за деревьями.
Приближалось несколько польских всадников – хорошо одетых барских холопов, возглавляемых толстым паном с развевающимися рыжими усами и петушиным пером на шляпе, очевидно дворецким.
Подстегивая нагайками, они гнали впереди себя связанных вместе мужчин, один из которых громко кричал при каждом ударе.
«Арбалет!» – тихо произнес командир, и казак, владевший этим оружием, тотчас же выстрелил по усатому пану, но попал в шею другому, ехавшему рядом с ним. С воплем повалился он, заливая кровью светлый кунтуш, производя смятение в кавалькаде. В тот же миг казаки с неистовым криком бросились на всадников и саблями рубили их. Тем временем упавший успел выхватить пистолет и выстрелить, повалив коня под одним казаком. Падая, казак этот помешал действию остальных, а холопы оправились от первой растерянности и быстро заработали саблями. Крики, ржанье, выстрелы и лязг оружия заглушали команду и стоны раненых.

