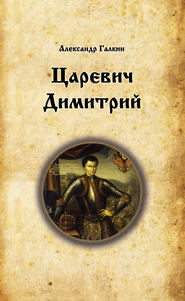
Полная версия:
Царевич Димитрий
– Послушником?
– Нет, монахом. Постричь скоро и клобук надеть – вернее будет.
– Тяжеленько ему придется, да и не миновать открыть Геласию, кто он таков.
– Открывать всё до конца нужды не вижу, но коли надо будет, откроем – ему можно.
– Велика тягота! Да неужто иначе не можем сохранити?
– И сам скорблю, не хочу сего, да нет исхода, не вижу верности нигде.
Они долго говорили ещё о том, куда спрятать своего воспитанника – четырнадцатилетнего мальчика Юрия Отрепьева, придавая огромное значение его существованию и воспитанию.
Исчерпав все возможные варианты помещения юноши в домах других братьев Романовых и отвергнув мысль об обращении к иным боярам по ненадёжности, они остановились на монастырских стенах. Но тут требовалось согласие его самого, и Фёдор Никитич приказал позвать отрока.
Вошел хорошо одетый молодой человек, ростом выше своих лет, с несложившимся ещё лицом, небольшими умными глазами и упрямой, несколько горделивой посадкой головы. Когда все двери были снова наглухо затворены и проверены, оба брата встали и, земно поклонившись вошедшему, посадили его в кресло и поцеловали руку.
– Царевич! – сказал Фёдор. – Мы здесь беседу тайную держали о твоём здравии и благоденствии. Времена ныне лихие, а дале и ещё хуже будет. Враг твой и наш Годунов Бориска рыщет повсюду и всяко слово слушает: чуть невпопад сказано – тот же день ему доносят. Опасность велия! Да хранит тебя Пречистая! На дворах наших нет крепости, и живота тут не сберегчи, надо уходить. Да не нашли мы иного места для тебя, государь наш, како в монастырь Симонов, к архимандриту Геласию. Ты его ведаешь – старче смиренный, и тебя полюбит. Но нужно восприяти чин ангельский.
– Постричься? – быстро спросил Юрий, бледнея.
– Не пужайся, Дмитрей Иванович: постричься не на веки вечные. Клобук не прирастёт ко главе твоей, и в своё время его снимешь – Бог простит, и патриарх святейший от клятвы разрешит. А с кафтанами шёлковыми, забавами детскими надо расстаться, государь, и жить в тишине чернецкой, к службам Божьим радеть и книги святые читать.
– Доколе же?
– Господь ведает! Брат твой, государь Фёдор Иванович, – сохрани его Господь – здравием слаб, на ладан дышит и может скоро преставиться – вчера мне сказывал о сём лекарь его немецкий, да и Годунов то ж думает. По кончине же его царской престол ты наследуешь, и мы тебя объявим всему народу Не печалься, батюшка, – верные твои слуги стоят вокруг тебя и не выдадут!
– Не хочу яз в монахи! Не жалеете вы меня, бояре, хоть и величаете царевичем своим.
– О государь! Сердце ноет и тоскует от скорби сей! Много думали мы о тебе, како сохранить тебя, да нету силы блюсти по дворам нашим – розыщет проклятый!
Чужим же людям отдать – заверное погубить. И вот страха ради смертного, по злой нужде, под рясою скрываться наш царевич будет. Иного не промыслишь, и да сохранит тебя царица небесная! А мы, твои рабы, всегда с тобою. Решайся, государь!
– Горько сие, не люблю чернецов.
– Пойми ты, что тут тебя любой пьянчуга зарезать может, а коли живого уведут – натерпишься страстей ужасных! У Геласия же никто не будет ведать о тебе, имя твоё переменится, и покуда распознают – в сохранности пребудешь. Не о себе печёмся, царевич, а токмо о твоём благополучии.
– О, сколь тяжко, лихо! – простонал мальчик и задумался со слезами на глазах; потом, махнув рукою, произнес тихо: – Ну что ж! Ничего не поделаешь… Да будет воля Божия!.. Видно, чему быть, тому не миновать. Боле не перечу! Когда же идти туда? С тобой поедем, Иван Никитич?
– Нет, государь, – возразил Фёдор, – с ним не можно, приметно то. Ехать тебе с нашим Прошкою, в одежде скудной. Яз же повидаю Геласия и скажу ему обо всём заранее – дабы встретил с благословением. Езжайте в воскресенье, под вечер. А ныне попрощаемся – яз скоро во Псков отбуду, и, можа, боле не свидимся. Прости, государь царевич Дмитрей Иванович, слугу верного!
Он снова земно поклонился Юрию. Потом, достав из божницы небольшой, золотой с эмалью, крест итальянской работы на цепочке, осенил им мальчика, приложил к его губам и надел на него.
– Се матушка твоя прислала мне для тебя со сказом нарочитым, что получила она сей крест от родителя твоего – помяни, Господи, его душу! Береги, государь, отцовское благословение пуще живота своего!
Он хотел поцеловать руку Юрия, да тот сам обнял Романова и расцеловал его.
– Прощай, боярин! Здрав буди! Не поминай лихом! – вымолвил он, уходя и старательно пряча под одежду подаренный крест и цепочку.
– Да поможет владычица! – проговорил Фёдор, оставшись с братом. – Царь Федор не жилец на миру; како видел его вчера – мыслю, и года не протянет в своей немочи, и в кремлёвских кутах уже шепчутся, кому шапку крестовую носить. Бориска непрестанно готовит роду своему достояние сие, но мы тож не спим, посильно делаем, что могим, и подпору в народе имеем. Дружил яз с Годуновым крепко до той поры, пока не узнал, куда клонит хотение его, а в сей приезд воочию убедился, что желает он на престоле сидеть. И уже ныне такою честию себя окружил, что лишь царям подобает, имя своё наравне с царским пишет и послов иноземных при рындах принимает. То нетерпимо есть! По правде божьей на царство сести должен яз, как ближний сродственник государя и в роду своём старший. Окромя нас, Романовых, есть и другие дворы, превыше нас знатностью, – Рюриковичи, тож наследники законные, не чета Борису; да токмо власти той, что он ныне имеет, у нас нету, а потому и надёжи мало, И буде не осилим тогда ехидну, то Юрий нам пригож окажется – подымем на нём смуту великую и опять борьбу поведём.
– Буде же ты, Федя, царю наследуешь, то скажем Юрию, что он не царевич, что ошибка с ним вышла, и пусть тогда в монасех остаётся.
– Ну нет! Ежели яз царем сяду, то нам потребно будет напрочь от него избавиться и все концы сокрыть, – царевич Дмитрей должен тогда почитаться умершим в Угличе и навек забытым.
– Можно и так. Избавиться, когда хошь, не трудно будет.
– Но нужно не терять его из виду и следить за ним непрестанно. Ты, брате, в мою отлучку возьми о сём заботу на себя, не упускай его из очей своих, чтобы во всяко время знать, где он обретается.
В сумерки назначенного дня Прошка Беспалый по поручению Романовых привез молодого Юрия в Симонов монастырь и сдал настоятелю. Геласий ласково принял Юрия и даже предложил ему остаться в качестве служки, после приёма сам проводил в крошечную келийку – щель между двух стен – рядом со своей спальней. Затем, вернувшись в покой, где стоял Прошка, и затворив двери, он заговорил шепотом:
– А что, чадо, были ли у покойного Богдана Отрепьева дети? Ведаешь ли?
– Не было детей. Яз видывал жёнку его, тож покойную, она сказывала – была у неё дочка, да Господь прибрал маленькую, а боле не было. Юрия же Богдановича просто записали на Отрепьева, опосля Богдановой смерти, и сказали круглой сиротою.
– А видал ли ты углицкого царевича в лицо?
– Не, владыко, не видал. Боярин же за тайну сказывал, что Юрий Богданович и есть тот царевич, а не Отрепьев сын, и говорил давеча, что сие также и твоему преподобию ведомо.
Архимандрит встал, открыл дубовый ларь и достал из него великолепную соболью шапку с малиновым верхом.
– Возьми, сыне, на поминку благословение обители нашей, от избытков моих, за простоту твою сердешную. Да не кланяйся, а скажи: как мыслишь – царевич то аль не царевич?
– Пошли тебе Господь, владыко святый, за щедроты твои! – ответил подьячий, целуя полу чёрной рясы. – А про Юрия вот что ведаю. Яз получил его в тот самый год, как случилось злое то дело в Угличе. Откуда он – неведомо. Да лета через два гостил у меня чернец некий из тех краёв, Мартын Сквалыга по прозванью, кой часто видывал царевича Дмитрея, и матерь его, и дядей во дворе ихнем – принимали они сего старца по жизни его святой. Так вот, он мне рек, что малец Юрий пречудно похож на царевича не токмо обличьем и власами, а и ростом, и повадкою. Но видел Мартын покойного царевича убиенна и лобызал уста его во гробе, с прискорбием и ничтоже сумняшеся. В ту пору яз сказал боярину Фёдору Никитичу про сие, и он повелел того монаха боле не пущати во двор и Юрия ему не казать. До нашего же дома жил он в Ярославле у некоего священника, а долго ли, кратко ли – не ведаю.
Настоятель отпустил Прошку, обещавшегося заходить раз в месяц для поддержанья связи с романовским домом, и задумался. Отрок Юрий отчасти напоминал ему царя Ивана, когда тот был ещё молодым, каким помнил его архимандрит Геласий – ровесник Грозного. Очень может быть, что это его сын, удачно спасённый в Угличе от Борисова ножа, может быть, даже заранее увезённый оттуда и подменённый другим, сходственным мальчиком, – теперь всего не разобрать. Но ежели это и не так, если Димитрий давно в могиле, а сей отрок найден впоследствии и научен держать главу по-царски, то надо признать, что устроено сие вельми искусно и далече зряще, – ему не придётся лгать и притворяться: он искренно считает себя царевичем. А некоторое сходство с отцом есть! И в таком случае всё равно – сын ли он покойного царя, нет ли, но каша для Бориса заварится такова, что не расхлебает чёртов сын вовек!
Игумен не сомневался, особенно после вчерашнего разговора с Фёдором Романовым, в том, что Годунов, ввиду близкой царёвой смерти, готовит себе царский престол. Только дурак не чует такого поворота! Вот тут и будет ему уготован пирожок с начинкою! И все его обиды будут-таки отомщены! Покойный князь Иван Петрович Шуйский (первее всех был бы наследник царства!) и протчие умученные други воздаяние получат за кровь свою неповинную! И сам он, Геласий, насильственно – в наказание за дружбу с Иваном Шуйским – постриженный Борисом в монахи, без Годунова архиереем будет, а может статься, и митрополитом. По роду своему он давно бы должен быть епископом, но Борис держал его «в чёрном теле». Надо принять все меры, чтобы свалить сильного врага, – тут все способы хороши, и подставной царевич весьма пригодится. Да ещё может быть, что он вовсе и не подставной, а настоящий! Разузнать же обо всём, касающемся прибывшего в монастырь юноши, со временем будет не так уж трудно: надо только поублажить мальчика да умело расспросить о раннем детстве, с тех пор, как себя помнит.
Ночевавший по случаю позднего времени в монастыре, Прошка, выезжая утром, после обедни, из ворот, встретил того самого Мартына Сквалыгу, о котором сказывал архимандриту.
– Здравствуй, отче! Узнал тебя по походке! – крикнул подьячий, подъезжая к пешему старику и останавливая коня.
– Прокоп Данилыч! Спаси тя Христос! О двуконь едешь! Отколь сие?
– Вечор служка монастырский заходил к боярыне нашей толстозадой с просвиркою, так повелела она мне утрева проводить его на конях, ну, яз и проводил. Теперь домой вертаюсь. Садись, Мартыне, – доедем вместе, куда те надо!
– Добре! – согласился монах, взбираясь на седло. – Туто корчма недалече – заедем, по ковшу пенника проглотим во славу Божию.
– В корчму? А коней ты себе в пазуху, что ли, положишь? На улке их здесь беспременно сведут.
– Да заходить и не будем – целовальник нам вынесет.
Они подъехали к кабаку, выпили, не слезая с коней, по чарке сивухи, затем спустились к Москве-реке и продолжали путь пустынной дорогою по льду.
Было не холодно; окружающая тишина и выпитая водка располагали к беседе.
– Ты всё там же, друже, – начал Сквалыга, – у Романовых? Каково живёши?
– День да ночь – сутки прочь! Не печалуюсь – перепадает кроха и в мои потроха! Боярин наш в большой чести ныне у царя, Годунов же Борис Фёдорыч первым другом его называет. Разбогатели мы!
– Одначе не на Москве, а – слух шёл – во Пскове перва друга-то ныне держат! Опять туда поедет?
– Поедет вскорости.
– Почто же тако? Ужели здесь нет места боярину?
– На то указ есть царский. Почём яз ведаю! Дивлюся вопрошанью твоему.
– Может, слышал ненароком – что за причина?
– Нет, отче, того не знаю: человеки мы малые – боярских блох не лавливали.
– Ты прежде речистее был, Прокоп Данилыч! Верил мне и знал, что Мартынка свято тайну хранит и едина слова во всю жизнь не выдал. Буди, друже, и здесь без сумнения! А не та ль причина, что царь наш недужит и, бают, может вскорости отойти, идеже несть печали и воздыханья, опосля же его кончины будут выбирать в цари боярина Годунова, твой же хозяин-то будто бы препоною к тому стоит?
– Не ведаю, отче, може, и так. Да токмо кака умная башка такие речи на дороге ведёт? – Он оглянулся во все стороны.
– Зря серчаешь, Прокопе! Души единой кругом нетути – река широка, и лучше места не промыслишь. Думаю же аз, грешный, что по смерти государя Фёдора Ивановича наследником ему должен стать Романов старший – близкий бо сродственник царя по матери.
– Може, и так. То дела великие, разума не нашего. А по какой стати вопрошаешь? Чтобы звонить потом везде? И како сам ты знаешь о сём?
– Знаю, друже, о многом – по миру шатаючись, всего наслышался, да токмо не звоню, а про себя таю. Замыслов же лихих не держу и тя возлюбил издавна. Меня не бойся!
– Издалече бредёшь ныне?
– Со степи украйной, батюшка, из Белграда, с монастыря Ефимьевска.
– Ну, что ж наглядел там? Каково зябнут людишки?
– Монаси добре живут, жиру накопили изрядно, а протчие животишки – худо, не лучше здешнего. Да беглых отсель в тех краях много стало, – тесно стало, и тяготы пошли великие.
– Бегут давно с деревень наших, из царства вон сигают, как лягушки из сухого болота. Покойный тятька мне сказывал, что пошло сие с той поры, как царь Иван Новгород воевал, и будто бы опришнина в том повинна.
– Опришнину аз тож помню – она бояр гноила, вотчины имала, служимым людям отдавала по царёву сказу. Княжат царь Иван изводил, да, одначе, не всех вывел – оставил. Простому же народу у тех князей лучше жилося, чем у нынешних дворянишков мелких. Допреж полсотни деревень за единым боярином были, и он собирал с них сколь нужно себе в прокорм, и челяди своей, и царю в подать. А ныне те деревни и дворы розданы во многи руци служилые, дворянские, и стало у мужиков тех на место едина владыки – сотня новых господарчиков, и каждый по жадности своей прежня князя перекроет. И тянут они жилы последние со смердов своих с неумолимостью до пота кровавого. Ну, и бежит народ куда очи глядят!
– Прежде легко было выходить от боярина – Юрьев день был, а ныне нет его.
– И ныне он остался, да токмо выхода боле нет, всё равно что в кабалу навечно заковали. Да и поборы велики стали, неслыханны! Стон стоит по избам! Как походишь везде по дорогам да поночуешь у мужиков православных, речей ихних послухаешь – диву даёшься, како ещё жив народ наш! Многая, многая видехом за очами своими! А всё за грехи наши Господь бедствия посылает и знаменья разные для вразумленья нашего даёт. Вот во Рязань-граде – проходил аз тамо по осени – жёнка Протопопова родила младенца с зубами, и он как родился, так тот же час и закричал по-петушиному: «Ку-ка-реку». Гоже, что на другой день помре. Спаси нас, Господи! И в Коломне видение было перед всем народом. На Филиппов день стоял аз у них. Во время молебна в соборе ихнем – Спас-Вознесенья – потемнел святой лику чудотворной иконы Одигитрии Пречистой, и не стало видно сего лика совсем, а чёрное место тамо, где бысть образ ненаглядный. Народ в страхе велии со слезами моляше Пречистую, да видно, не угодны Господу молитвы града сего – не вернулся пресветлый лик! Сие же оттого, что вельми греховны люди стали: вином упиваются, непотребством грешат и зело теснят меньшую братию. Нищих тамо! Почитай, и нигде столько не видел!
– Сего добра и на Москве хоть отбавляй. Пьянствуют тож лихо, и сивухи здесь сколь захочешь! У нашего боярина ныне два кабака на торгу – целовальники доход дают изрядный.
– Завтра свадьба у Петра Трясогуза, что на тычке лавку держит – у Николы на Курьих Ножках. Буду там и пивка попью вволюшку – пречудесное у него пиво! Сына женит на палачьей дочке из Лужниковой слободы. Похабный будет пир, и уж не токмо протопопа, а и дьякона Кирилки там не будет!
– Почто ж купец роднится столь зазорно?
– Сгорел он прошлу зиму – торговля в разлад пришла, и теперь того и жди, что на правеже долги платить заставят. У палача же много добра прикоплено: злато, серебро за дочкой даёт, выручает. Ну, и берут невесту без разбору. Из хороших гостей никто на таку свадьбу не пожалует, одна мразь смердовская жрать прибежит.
– И ты с нею!
– Мне, брате, всё едино, купец ли, палач ли сидит рядом, – все мы рабы Господни, и ни к кому небреженья нет, лишь бы чара добрая стояла. Вот намедни на похоронах у князь Юрия, у Ивановича, знатно мы выпили – помяни его, Господи, во Царствии Своём, – пирогом с рыбою прикусили.
– У Мстиславского, что ли? Ты и там бываешь?
– Бываю, друже, везде бываю – и в простых дворах, и в боярских, и в купеческих. А со Страстной седьмицы думаю веригу на себя наложить – тогда хоть в царские палаты заходи: везде хлебсоль готовы! И слышу аз многое и знаю такое, что иным, протчим, не ведомо. Егда же в монастырь загляну, так меня всяк настоятель принимает да угощает, а потом тихомолком и вопрошает. Памятую же аз вельми долго и гласы человечьи, и речи ихни, вот токмо о временах забывчив стал к старости.
– Ну и что же ты в княжьем доме том проведал? Каки тайны тебе бояре открывали? – спросил подьячий не без усмешки.
– Князья ничего же нам скажут, а вот челядь ихня, людишки дворовые, что всю хозяйску жизнь насквозь видят, немало рассказывают. Серед них же встречаются иной раз и таковы, что не токмо хозяйски, а и государски делы разумеют, вроде вот тебя, к примеру, да не все они, як ты, друже, язычок на цепи держат, а перед Мартыном душу облегчают И твоя издёвка смешливая ни к чему, Прокоп Данилыч. Да аз не обижаюсь, прощаю ти по кротости моей смиренной.
– Хороша кротость! Весь народ за пьянство укоряешь, а сам токмо и помышляешь о винной чарке!
– Из грешных – первый есмь аз! Да ведь без греха не покаешься, а нераскаянному – несть спасения! Недавно на духу был – очистился, а как веригу надену, то и все грехи покрою.
– Все вы, «божьи люди», таковы! Забулдыги!
– Ну нет. Аз не из плохих иноков, есть и того худче! Вот в этой самой обители Симоновой, отколь днесь едем мы, нашли дьякона на сеновале под шубою с девкой молодою. Так отец келарь приказал сечь их розгою. В кровь иссекли дьякона при братии, а егда девку стали класть, так братью выслали, одни старцы остались, и аз с ними. Визжала она столь ражко, что не вынес келарь и велел отпустить. А зады у ней таковы гладкие, с румянцем, да пышные, як подушки пуховые!.. Ух!
– Досмотрел, святой человече!
– Грехи, грехи наши, батюшка!
Так, беседуя, приятели неторопливым шагом проехали рекою половину дороги, изредка встречая крестьян, возвращавшихся из города. За поворотом реки они ещё издали заметили на снегу возле колеи какое-то темное пятно, а когда подъехали ближе, то увидели лежащего голого человека с перерезанным горлом.
В полуоткрытом, окровавленном его рту были видны зубы, рыжие волосы слиплись, обострившийся нос с горбинкой выделялся на молодом лице, всё тело уже заиндевело и слегка запорошилось снегом.
Они остановились, разглядывая несчастную жертву грабежа.
– Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего! – сказал монах, снимая шапку и крестясь. – Не дале как сей ночью кончили беднягу. А чуешь ли, Прокопе, на кого походит юнец сей?
– Не знаю, друже, впервые вижу.
– На отроча того, что, помнишь, видал аз на дворе вашем года три тому назад. Забыл уж, как звать-то! Не он ли се?
– Нет, отче, то не он.
– А почему нет? Вглядися, милый: власы те же, и нос весьма сходственный; се – он!
– Нет, Мартыне, сказал тебе, что не он, – доподлинно знаю яз, что говорю, верь мне.
– Коли знаешь, так особь статья. Едем дале. А что же ты ведаешь? Тот отрок и ныне у вас живет?
– Нету его у нас, а где он – не ведаю.
– Не ври, друже, не бери греха на душу: кабы не ведал, не упорствовал бы перед покойником, а признал бы да поднял бы – похоронить ведь надо. Расскажи ты мне по душе обо всём, и аз тебе некую тайну открою. Вспоминаю, что отрок тот похож был на царевича Дмитрея, токмо нравом потише был. Где он ныне? Жив ли?
– Он жив, а где находится – безвестно мне.
– А почто боярин Романов держал его в ту пору? И чего ради днесь его нету?
– Яз немало открыл тебе, Мартын, сказавши, что малец тот жив и здрав. Про остатнее же зря любопытствуешь ты. Не спрашивай, а поведай лучше, как обещал, про тайну боярскую.
– Изволь, родной мой. Коль ты молчишь, так яз глаголать буду. Бают же там вот что – во всех дворах, куда ни заходил, и в монастырях тож, – будто зарезали царевича углицкого, малютку Дмитрея, по приказу боярина Годунова, потому как был он наследник царствия на Москве.
– То давно слышали и забыть успели. Прошлогодней ягодой потчуешь!
– Постой, милый. Глаголют ещё, что Годунов царское место себе уготовал и патриарх его на то благословит.
– Тож известно всякому попу базарному аль целовальнику в кабаке.
– Ты всё ведаешь, Прокоп Данилыч, хоть и любишь несмышлёнышем прикинуться. Ничем тя не удивишь! А знаешь ли, что Годунов не люб большим боярам? И может оттого свара и грызня лютая учиниться промеж бояр, когда учнут царя ставити, даже до кроволития! Разведал же аз о сём на похоронах у князя Юрия. Но никакой грызни не было бы, ежели бы царевич Дмитрей не помре: сел бы он царём после брата своего, и всё было бы тихо и благолепно.
– А ты, отче, подлинно его убита видел? Не ошибся ли?
– Того не мыслю. И не пойму, что разумеешь ты, Прокопе…
– Вот сейчас ты мертва тела не распознал, за иного принял, так, может, и тогда недоглядел?
– Зришь ли, друже, в мёртвом теле завсегда ошибка может статься, потому – неживой он, видимость его сменилась: и очи не смотрят, уста не те, и смерть руку наложила. Но не аз един царевича во гробе видел – матерь его родная тут была, и дяди, и челядинцы. Все горевали, и никогда мне в душу сумненье не приходило.
– Не приходило?
– Вот те крест – николи во всё время! Ныне же, як вспоминаю отроча того, что у Романова жил, не знаю, что и думать: смутил ты душу мою! Помоги мне, Пречистая! А сам ты – како отрока того чтишь?
– Никак не чту, Мартыне! И бросим нелепый разговор сей! Скажи лучше, долго ли на Москве пробудешь?
– Так он, говоришь ты, жив и здрав – малютка тот, что у тебя во дворе с собакой забавлялся? Тако… тако…
– Ты про что мыслишь?
– Ни про что, друже, не мыслю, а токмо скажу ти паки: кабы жив был Дмитрей царевич али бо воскрес из мертвых, – он сделал упор на последние слова, – то царь был бы законный.
– Говори прямо, Мартыне.
– Да уж чего прямее, чем видели! Молодец зарезанный, и сходство есть! Не чудно ли?
– Брось загадки! Не с дворовой девкой язык чешешь!
– А сам ты прямо глаголеши? Словечка прямого не изрёк со мною – не веришь мне! Тебе же аз поверил – не тот се отрок, что у тебя жил. А почто зарезали молодца? Думаешь, по разбою?
– Ничего яз не думаю, а как по-твоему?
– По моему умишку малому – потому и убили, что сходство имел с отроком тем… не припомню имя-то!.. Ты не забыл, как звали-то?
– Давно забыл, отче.
– Онемели уста твои, друже! Но Бог с тобою! Не серчаю. Зайду к тебе на неделе, пивка испить боярского, а может, и медком яблочным угостишь – люблю сие! Тогда ещё истину поведаю тебе вельми любознательну. Теперь же треба на берег подыматься – Усть-Яуза здеся. Проводи ми, родной мой, до монастыря Ивановска – недалече тут, – и Бог тя благословит!
Четыре года прошло со времени описанных разговоров, и немалые перемены случились на Москве. Царь Фёдор умер бездетным, династия закончилась, избранный «освящённым» Земским собором Борис Фёдорович Годунов торжественно вступил на престол царей московских, раздавая милости направо и налево своим избирателям и приспешникам. Испытанный интриган и неплохой государственный кормчий, он опытной рукою вёл свой корабль, укрепляя приобретённую ещё до воцарения славу «правителя велемудрого», снискивая благодарность торговых гостей, обращая на себя внимание и за границей. Ничто не омрачало прекрасных первых годов его царствования; дела Бориса процветали.
Служилое дворянство обожало нового царя, архиереи воспевали, купцы везли подарки, иностранные короли слали к нему своих послов. Нашумевшее в своё время тёмное углицкое происшествие и погибший мальчик – соперник его по трону – никем не вспоминались, словно их никогда и не было. Мать царевича, заколовшегося (по официальному сообщению) случайно, играя с ножом, была обвинена в недосмотре за сыном и загнана в дальний северный монастырь; дяди его, искалеченные на пытке, сидели по тюрьмам и ссылкам, их друзья и свояки – по своим вотчинам и деревням. Не уничтоженные враги или попрятались в тихие углы, или же, восхваляя царя, умоляли о милосердии, старались всеми способами заслужить ласку царёву. Но умел Годунов различать своих недругов и под маскою преданности: он сурово карал, когда видел, что «друзья» если не сейчас, то в будущем могут так или иначе угрожать его могуществу. Он не мог забыть, что некоторые земские люди, приехавшие на «освященный собор», предлагали в дособорных совещаньях избрать в цари Фёдора Романова, и хотя этот боярин тут же и отказывался от этой чести, однако заявление этих людей было поддержано и другими. Конечно, положение Бориса от этого не поколебалось – сильна была его партия, – и на большом заседании собора во главе с патриархом он был избран единогласно, без всяких возражений. Но тут, на этих совещаньях, открыто и ясно выявилось, что есть на Москве боярский род, решающийся, опираясь на родство с покойным царем, вступить с Борисом в борьбу за престол. Годунов и раньше подозревал замыслы Романовых, своевременно услал Фёдора во Псков, а остальных держал в тени. Теперь же «лучший друг» (как до сего называл Борис Фёдора Никитича) и весь дом Романовых был очернён в глазах царя и превратился в прямого врага, тем более опасного, что много лет он скрывался под видом дружбы.

