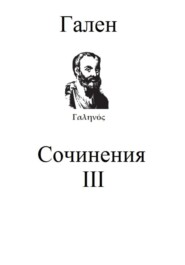 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 3
4.6.7. Далее, разъясняя все это, он пишет так: «Один человек отступает перед опасностью, другой теряет волю и сдается перед лицом потери или прибытка, третий – встречая иные подобные вещи, которых немало.
4.6.8. Каждый такой случай заставляет нас обратиться вспять и порабощает, и мы, уступая, предаем друзей, города и позволяем себе совершать многие постыдные поступки, когда прежний наш порыв ослабел.
4.6.9. Таким человеком Еврипид изобразил Менелая. Выхватив меч, он бросился к Елене, чтобы убить ее, но, увидев ее и поразившись ее красоте, выронил меч, не имея сил даже держать его, о чем и сказано в порицание ему:
Ты нежные едва увидел перси,И меч из рук упал… Ты целоватьИзменницу не постыдился…»[344]Все это Хрисипп говорит правильно, однако это противоречит его утверждению о том, что страсти являются суждениями.
4.6.10. Так, Менелай, принявший решение убить Елену и обнаживший меч, после того как приблизился к ней, пораженный красотой, из-за вялости и слабости души – ведь именно это Хрисипп показывает этим примером – не только отбросил меч, но и стал целовать эту женщину и, можно сказать, сделался ее рабом. При этом он не повинуется какому-либо рассуждению, как было бы, если бы он изменил свое суждение; напротив, он безо всякого рассуждения устремляется в направлении, противоположном тому, в котором он решил следовать ранее.
4.6.11. Поэтому и сам Хрисипп далее говорит: «Вот почему во всех случаях, когда негодные люди поступают таким образом, отступая от своего намерения и уступая по многим причинам, правильно будет сказать, что они в каждом случае действуют бессильно и негодно»[345].
4.6.12. Итак, то, что все порочные люди действуют вопреки разуму, повинуясь страстям, из-за своего рода вялости и слабости души, сказано очень правильно; и очень хорошо, что далее он добавил, что это происходит по многим причинам; однако было бы еще лучше, если бы он назвал эти причины.
4.6.13. Ведь если отнестись к этому вопросу со вниманием, то будет ясно, что общей целью всех сочинений о страстях, и особенно об их лечении – а именно в таком сочинении он написал это, – является как раз определение всех тех причин, по которым люди, действуя в соответствии со страстями, отвергают свои первоначальные суждения.
4.6.14. Он же настолько далек от определения всех этих причин, что даже ту причину, которую он упомянул в этом отрывке, он не определил точно. Ведь мало сказать, что это слабость души, поскольку слабость – общая и единая причина всех страстей.
4.6.15. Хрисипп говорит, что есть много таких причин, то есть причин, выявляющих слабость души: для Менелая это красота Елены, для Эрифилы – золото, для другого – нечто другое.
4.6.16. Существуют тысячи причин, по которым живущие в соответствии со страстью отходят от своего первоначального суждения.
4.6.17. Однако не нужно перечислять все эти тысячи причин, а достаточно сказать о немногих основных, как это делал Платон, говоря, что знание обладает царской властью и господством и что никакой человек, обладающий знанием, не может ошибаться ни в чем, но ошибаются переубежденные, или забывшие это, или принужденные силой, или прельщенные, всякий в своем деле.
4.6.18. Но забыть что-либо или быть переубежденным – это еще не страсть, равно как и полное отсутствие знания есть невежество и незнание, а не страсть.
4.6.19. Если кто-либо отступает от своего прежнего суждения, принужденный гневом или прельщенный наслаждением, то душа его является слабой и вялой, и движение ее есть страсть, как душа выведенного в трагедии Менелая, прельщенная влечением, отступает от первоначального намерения, или принуждаемая гневом душа Медеи, о которой Хрисипп упоминает, приводя стихи Еврипида и не понимая, что они свидетельствуют против него самого:
«Я понимаю, что на зло решаюсь,Но гнев сильней суждения во мне»[346].4.6.20. Ведь если бы пассаж Еврипида свидетельствовал в пользу взглядов Хрисиппа, там не было бы сказано «я понимаю», но было бы сказано нечто противоположное: «я не знаю и не понимаю, что решаюсь на зло».
4.6.21. Ведь что иное может означать это понимание и это подчинение гневу, как не то, что автор предполагает у Медеи два начала побуждений: одно – то, при помощи которого мы понимаем события и имеем знание о них, то есть разумную силу, другое же – неразумное начало, дело которого – гневаться.
4.6.22. Итак, душа Медеи была принуждена этим началом; другое начало – вожделеющее – прельстило душу Менелая и вынудило его следовать своим повелениям.
4.6.23. Хрисипп не чувствует здесь противоречия, но делает тысячи утверждений такого рода, например, когда говорит: «Это влечение, неразумное и отстраненное от разума, распространено, я думаю, шире всего; имея его в виду, мы говорим, что кто-то охвачен гневом»[347].
4.6.24. И еще: «Поэтому с людьми, охваченными этой страстью, мы ведем себя как с безумными и относимся к ним, как к тем, кто потерял рассудок, не в себе и не владеет собой»[348].
4.6.25. Затем он снова объясняет то же самое: «Эта утрата себя и выхождение из себя происходят не из-за чего иного, как из-за отказа от разума, о чем мы сказали выше»[349].
4.6.26. А ведь выражения «быть влекомым гневом», «выйти из себя», «быть вне себя» и подобные им явно свидетельствуют против того, что страсти есть суждения и связаны с разумной силой души, как и то, что сказано им далее:
4.6.27. «Поэтому мы можем слышать, как о влюбленных, о людях, охваченных другими сильными желаниями, и о тех, кто гневается, говорят, например, что, мол, пусть уж гневаются, что надо войти в их положение и, плохо это или хорошо, никоим образом их не отговаривать, даже если они поступают неправильно и для себя вредно»[350].
4.6.28. Ведь и то, о чем говорит здесь Хрисипп, вновь указывает, что яростная сила есть нечто иное, чем сила разумная, и что стремления живого существа, когда оно находится в состоянии страсти, управляются либо этой силой, либо силой вожделеющей, так же как когда оно находится вне страсти, оно управляется силой разумной.
4.6.29. О следующем высказывании Хрисиппа можно сказать то же, что и о приведенных ранее: «Любимые в особенности ожидают от тех, кто их любит, именно таких порывов, то есть что они будут вести себя непредсказуемо и безрассудно, а также пренебрегать увещаниями и, более того, вообще ничего такого не станут слушать»[351].
4.6.30. И ведь все это свидетельствует в пользу древнего учения, как и то, что он пишет далее: «Они настолько теряют разум, настолько неспособны слушать или обращать внимание на увещания, что, пожалуй, не будет неуместным сказать им такие слова:
“Киприда, даже понуждаемая, не отпускает.Если на нее действуют силой, она любит держать еще крепче”.“Эрос понуждаемый теснит сильнее”»[352].4.6.31. Дальнейшее рассуждение, как и все, приведенное ранее, свидетельствует в пользу древнего мнения о происхождении страстей. Вот это рассуждение: «Они отталкивают разум как неуместного назидателя, не сочувствующего влюбленным, как человека, не к месту выступающего с попреками, в то время, когда даже боги, кажется, позволяют им произносить ложные клятвы»[353].
4.6.32. И к тому, что он пишет далее, все это относится еще в большей степени: «Пусть нам дозволят, – говорят они, – делать то, что у нас выходит, и следовать нашему желанию»[354].
Клянусь Зевсом, здесь он совершенно ясно пишет: «следовать влечению», как прежде он говорил «гневу».
4.6.33. Ни в приведенных рассуждениях, ни в последующей части своего сочинения он нигде не говорит, что находящиеся в состоянии страсти следуют разуму, но, напротив, говорит, что они «совершенно отклоняются» от него, «избегают» и «не допускают» его, и так далее.
4.6.34. И когда он приводит стихи Менандра, в которых говорится:
«Я взял свой разумИ в пифос положил»[355],он и здесь явным образом приводит свидетельство, которое подтверждает древнее учение, так же как и когда, истолковывая выражения «быть вне себя» и «быть не в себе», он говорит следующее:
4.6.35. «О людях, охваченных гневом, правильно говорят, что их несет, – подобно бегунам, несущимся сломя голову. Сходство здесь в чрезмерности, которая у бегунов превышает меру стремления, а у гневающихся выходит за пределы их разума. Ибо о них, в отличие от тех, кто властвует над своим движением, нельзя сказать, что они движутся в соответствии со своими намерениями; напротив, они движутся в соответствии с некоей внешней силой»[356].
4.6.36. Здесь он также признает, что для всех порывов страстей существует некая движущая сила, и его мнение совершенно справедливо, за исключением того, что он считает эту силу внешней, тогда как следовало сказать, что она находится не вне, а внутри самих людей.
4.6.37. Ведь мы говорим, что такие люди «выходят из себя» и пребывают «не в себе» не потому, что нечто, принуждающее их действовать по велению страсти, находится вне их, но потому, что это происходит против природы, так как разумная часть души, которой по природе свойственно управлять и руководить другими, в таких состояниях не правит неразумными силами души, но сама подчиняется им.
4.6.38. Я думаю, Хрисипп не понимает, что подтверждает своими примерами именно это мнение. Например, он приводит следующий диалог Геракла с Адметом из трагедии Еврипида:
«Какая польза в постоянных стонах?», —так говорит Геракл, а Адмет отвечает:
«Нет пользы; есть любовь и жажда слез»[357].4.6.39. Ведь очевидно, что любовь есть страсть, порожденная не разумной, но вожделеющей силой, и она выводит душу из ее естественного состояния и ведет человека к действиям, противоположным тем, которые он изначально считал правильными.
4.6.40. Также он приводит сказанное Ахиллом Приаму:
«Будь терпелив и печалью себя не круши беспрерывной.Ты ничего не успеешь, о сыне печаляся; плачемМертвого ты не подымешь, но горе свое лишь умножишь!»[358]4.6.41. По словам Хрисиппа, Ахилл говорит так, «находясь в себе» – он употребляет именно эти слова, – но он же под влиянием происходящих событий нередко отступает от собственных суждений и не владеет собой, побеждаемый страстями.
4.6.42. Итак, и здесь – «отступает от собственных суждений», и «не владеет собой», и «иногда находится в себе, а иногда – не в себе», и прочие выражения в том же роде. Все это очевидно согласуется и с наблюдаемыми явлениями, и с учением древних о страстях и силах души, а с мнением Хрисиппа не согласуется.
4.6.43. Подобные же вещи сказаны и в книге «О страстях»: «То, что в нас волнуется, сбивается в сторону и не повинуется разуму, не в меньшей мере возникает и при наслаждении»[359].
4.6.44. И в другом месте: «Мы настолько явно покидаем себя, удаляемся от себя и бываем совершенно ослеплены разочарованиями, что, бывает, когда мы держим в руках губку или кусок шерсти, мы подбрасываем это и швыряем, словно тем самым чего-то достигаем. А случись, что у нас меч или еще что-нибудь, мы поступили бы точно так же»[360].
4.6.45. И затем: «Часто в таком исступлении мы кусаем засовы, бьем в двери, если они не сразу открываются, а если споткнемся о камень, то мстительно бьем по нему и швыряем его куда-нибудь, и при этом все время бормочем какую-то невнятицу»[361].
4.6.46. Точно так же и далее он говорит: «По таким действиям можно понять присущую страстям неразумность и то, насколько бываем мы ослеплены в подобных случаях, словно стали совсем не похожи на прежних рассудительных людей»[362].
4.6.47. В целом если бы кто-нибудь теперь собрал и переписал все то, что в книге Хрисиппа «О страстях» противоречит его собственным заявлениям и согласуется с очевидными фактами и учением Платона, то получилась бы книга несоразмерной величины.
4.6.48. Ведь его сочинение полно такого рода высказываний: рассуждений о том, что люди отказываются от своих прежних суждений и высказываний из-за гнева, вожделений или наслаждения, или совершают те или иные безрассудные поступки, или о том, что выходят из себя и бывают не в себе, делаются слепыми рассудком, их бесконтрольно увлекает страсть, они совершают безумные поступки – и так далее, и тому подобное.
4.7.1. Я призываю кого-нибудь на досуге собрать эти его высказывания: их общий тип я уже показал достаточно отчетливо. А я перейду к тому, что ответил Хрисиппу Посидоний.
4.7.2. Он говорит: «Итак, это определение безумия, как и многие другие определения страстей, высказанные Зеноном и записанные Хрисиппом, явно противоречит собственному мнению Хрисиппа.
4.7.3. Ведь Хрисипп говорит, что скорбь есть свежее мнение о присутствующем для человека зле. Иногда это определяется более кратко, а именно: скорбь есть мнение о свежем присутствии зла».
4.7.4. Он говорит, что «свежее» означает недавнее по времени, и просит объяснить ему причину, по которой представление о зле, будучи свежим, подавляет душу и производит скорбь, а по прошествии времени или совсем не подавляет, или подавляет не в такой степени.
4.7.5. Однако если бы мнения Хрисиппа были верны, то в определение вовсе не следовало бы ставить слово «свежее». Ведь его учению более соответствовало бы – и это совсем в его обычае – называть скорбь мнением о зле великом, или нестерпимом, или невыносимом, но не свежем.
4.7.6. Здесь Посидоний опровергает Хрисиппа сразу двумя способами. Вторым его опровержением является упоминание тех, кто уже достиг мудрости, и тех, кто еще только совершенствуется в добродетели: первые сознают, что достигли величайших благ, а вторые – что пребывают среди величайших зол, тем не менее ни те, ни другие не впадают из-за этого в состояние страсти.
4.7.7. Первое же опровержение – то, что он спрашивает причину, по которой скорбь есть не просто представление о присутствии зла, но лишь представление свежее; он говорит, что всякое непривычное и неожиданное событие, случившееся внезапно, приводит человека в смущение и заставляет его изменить прежним суждениям; если же человек был к событию подготовлен или по прошествии времени успел свыкнуться с ним, то же впечатление или вовсе не действует на человека и не заставляет его действовать под влиянием страсти, или воздействует совсем мало. Поэтому он и говорит о том, чтобы «заранее сжиться» и относиться к событиям, которые еще не произошли, так, как если бы они уже случились[363].
4.7.8. Выражение «заранее сжиться» у Посидония означает как бы заранее представить себе и как бы нарисовать для себя событие, которому предстоит случиться, и мало-помалу сформировать к нему некую привычку как к уже происшедшему.
4.7.9. В этой связи он приводит случай с Анаксагором: говорят, что, когда некто сообщил ему, что погиб его сын, он вполне спокойно сказал: «Я знал, что породил смертного». По словам Посидония, Еврипид имеет в виду ту же идею, когда заставляет Тесея говорить:
4.7.10. «Мне средство подсказал мудрец один:Я вверг свой ум в несчастья и заботы,Изгнанником себя вообразил,Представил смерть безвременную, бедыВеликие: когда они придут,Пусть встретят подготовленную душу»[364].4.7.11. По мысли Посидония, то же значение имеют и следующие стихи:
«Когда б сей день был первым днем скорбей,И я б не плыл давно страданий морем,Я стал бы рваться, словно жеребец,Ярму противящийся, непривычный.Теперь же я смирился, отупел»[365].Бывает иногда и такое:
«Печаль твою смягчат года, Адмет;Теперь она, конечно, в полной силе»[366].4.7.12. Хрисипп свидетельствует во второй книге сочинений «О страстях», что со временем страсти ослабевают, даже если сохраняется мнение о том, что случилось какое-то зло, и пишет так:
4.7.13. «Можно, конечно, задать вопрос, как происходит ослабление скорби, вследствие ли изменения некоего мнения или при сохранении прежнего состояния, и почему это будет так происходить»[367].
4.7.14. Далее он добавляет: «Мне представляется, что это мнение, то есть о присутствии зла, сохраняется, но с течением времени сжатие души ослабляется и, как мне кажется, одновременно ослабляется импульс, сопутствующий этому сжатию.
4.7.15. Может быть и так, что при сохранении мнения последующие состояния не будут соответствовать ему, поскольку возобладает некое другое состояние, происхождение которого трудно понять.
4.7.16. Поэтому человек может перестать рыдать, а может рыдать и против своего желания, когда наличные обстоятельства приводят к возникновению одинаковых представлений, а к ним добавляются или не добавляются некие привходящие обстоятельства.
4.7.17. Раз прекращение рыданий и плача происходит таким образом, то разумно предположить, что так же обстоит дело и с другими проявлениями эмоций, поскольку, как я указал, ссылаясь на причину смеха, побудительные причины сильнее всего действуют вначале»[368].
4.7.18. Итак, сам Хрисипп соглашается с тем, что страсти со временем стихают, хотя мнение не меняется, но он говорит, что трудно понять, почему это происходит.
4.7.19. Далее он описывает другие подобные явления, при этом открыто заявляя, что сам не знает их причины. Посидоний же, о Хрисипп, не говорит, что причины их неизвестны, но одобряет и принимает сказанное древними, о чем я скажу далее.
4.7.20. Ты думаешь, что ответил на поставленный вопрос, если признал, что причина неизвестна, при этом не упомянув мнения древних и не назвав никакой другой причины.
4.7.21. В действительности же главное в изучении и лечении страстей – именно нахождение причины того, что страсти рождаются и утихают.
4.7.22. Ведь я думаю, что именно благодаря этому знанию можно было бы помешать возникновению страстей и усмирить страсти, уже появившиеся. Я думаю, логично, что если устранить причины тех или иных явлений, то вместе с ними устранится и возникновение, и существование этих явлений.
4.7.23. Ты же не смог написать нам в книге «О страстях» того, постижение чего сделало бы нас способными препятствовать появлению всякой страсти и исцеляться от уже появившейся, и это при том, что все это прекрасно описано Платоном, на что указывает и Посидоний, восхищаясь этим человеком и называя его божественным, и ставит на первое место его взгляды о страстях, о силах души, и то, как не допускать возникновения страстей души и как наиболее быстро усмирять страсти, уже возникшие.
4.7.24. Он говорит, что это учение связано с учением о добродетелях и о целях, и вообще все положения этической философии связаны, как бы единой нитью, учением о силах души. Он сам показывает, что страсти порождаются гневом и вожделением, и объясняет, по какой причине они со временем утихают, даже если мнения и суждения о том, что нечто дурное происходит или произошло, остаются в силе.
4.7.25. Именно об этом свидетельствует сам Хрисипп во второй книге сочинения «О страстях»:
4.7.26. «И в случае скорби бывает, что некоторые подобным же образом выглядят уже не скорбящими, словно насытились.
Именно таким образом Поэт описывает Ахилла, скорбящего по Патроклу:
“Но когда насладился Пелид благородный слезамиИ желание плакать от сердца его отступило”[369],он тут же принялся утешать Приама, показывая ему все неразумие его скорби»[370].
4.7.27. Далее он добавляет следующее: «Как ясно из этого описания, человек не должен терять надежду на то, что со временем, когда острота страсти ослабеет, разум проложит себе дорогу и, так сказать, заняв территорию, покажет всю неразумность страсти»[371].
4.7.28. В этом отрывке Хрисипп явно признает, что лихорадка страсти со временем ослабевает, даже если стоящие за ней убеждение и мнение сохраняются; люди насыщаются страстными движениями, и поэтому, когда страсть берет как бы некую паузу, разум оказывается сильнее.
4.7.29. Итак, именно эти положения являются в высшей степени истинными, однако они противоречат его учению, так же как и то, что он пишет далее, а именно:
4.7.30. «Вот что сказано о переменах, которым подвергаются страсти:
“Порой забываюГоре, понеже нас скоро холодная скорбь утомляет”[372],а о привлекательности скорби сказано следующее:
“…Несчастным в радостьРыдать и плакать о своей беде”[373].4.7.31. И далее:
“Так говорил – и во всех возбудил он желание плакать”[374],и
“Улетайте, рыдая, стоны!Сердцу пить чашу слез так сладко…”»[375].4.7.32. Коротко говоря, существует множество других таких же свидетельств поэтов о том, что люди насыщаются скорбью, слезами, рыданиями, гневом, победой, мщением и тому подобным, из чего нетрудно прийти к заключению о причине, по которой страсти со временем ослабляются и разум вновь обретает власть над стремлениями человека.
4.7.33. Поскольку яростное начало души направляется соответствующими влечениями, то, достигнув объекта влечения, оно насыщается и останавливает свое движение, которое управляло стремлением живого существа и направляло его к этому объекту.
4.7.34. Следовательно, причины прекращения страстей не непостижимы, как утверждает Хрисипп, но весьма понятны для того, кто не одержим стремлением превзойти древних.
4.7.35. Ведь нет ничего более очевидного, чем то, что в наших душах есть некие силы, по природе своей стремящиеся к удовольствию, власти и победе, которые с очевидностью наблюдаются и у других живых существ, как говорит Посидоний и как мы указали еще в начале первой книги.
4.7.36. Он справедливо порицает Хрисиппа за то, что тот говорит: «Может быть и так, что при сохранении мнения последующие состояния не будут соответствовать ему, поскольку возобладает некое другое состояние»[376]. Ведь он говорит, что невозможно, чтобы при наличии стремления действию мешала какая-то другая причина.
4.7.37. По той же причине, когда Хрисипп говорит: «Поэтому человек может перестать рыдать, а может рыдать и против своего желания, когда наличные обстоятельства приводят к возникновению одинаковых представлений»[377], Посидоний снова задает вопрос, почему многие часто плачут против своей воли, будучи неспособными сдержать слезы, а другим удается остановить себя, еще когда присутствует только желание плакать: ясно, что это происходит оттого, что у одних страстные движения столь сильны, что не управляются волей, а у других полностью усмирены, так что не могут восстать против нее.
4.7.38. Вот такое рассуждение позволяет ясно проиллюстрировать борьбу разума и страстей и явным образом сохранить представление о различных силах души: клянусь Зевсом, здесь идет речь не о каких-то, по выражению Хрисиппа, «непознаваемых причинах», но о тех причинах, о которых говорили древние.
4.7.39. Ведь так учили не только Аристотель или Платон, но еще раньше, наряду с другими, Пифагор – именно он, по словам Посидония, первым высказал это мнение, которое Платон тщательно разработал и изложил более совершенно.
4.7.40. Именно поэтому, как очевидно из наблюдений, привычки и вообще время имеют величайшее влияние на страстные движения.
4.7.41. Ведь неразумная часть души понемногу приспосабливается к привычкам, в которых воспитывается, а с течением времени, как было сказано выше, страсть заканчивается, так как неразумные силы души насыщаются тем, к чему раньше горячо стремились.
4.7.42. С другой стороны, логические знания и суждения, и в целом все искусства и ремесла, как обнаруживается, не приобретают непреодолимую силу из-за одного только времени, как это бывает с привычками к страстям, и не прекращаются и не усмиряются, как скорбь и другие страсти.
4.7.43. Разве из-за насыщения, наступающего со временем, можно изменить мнение о том, что дважды два четыре или что все точки окружности одинаково отстоят от центра?
4.7.44. То же относится и ко всякому другому научному положению: нет никого, кто отложил бы в сторону свое прежнее мнение о таких вещах, пресытившись им, как откладывает плач, скорбь, стоны, рыдания, сетования и все тому подобные вещи, даже если сохраняется прежнее мнение относительно произошедшего, что оно плохо.
4.7.45. Безусловно, и этого было бы достаточно для того, чтобы показать неправомерность рассуждений Хрисиппа относительно страстей души и прежде всего относительно сил, приводящих их в действие.
4.7.46. Однако я решил продолжить рассуждение об этих предметах в пятой книге, опуская большую часть его ошибочных суждений и упоминая только те, в которых он противоречит самому себе и имеет наглость отрицать очевидные факты; в этой связи я упомяну также о том, что возражал Хрисиппу Посидоний.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ[378]
5.1.1. ῾Ο περὶ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς λόγος ἀναγκαῖος μὲν ἦν ἡμῖν ἐσκέφθαι καὶ δι’ ἑαυτόν, ἀναγκαιότερον δὲ ἐποίησαν αὐτὸν οἱ περὶ τὸν Χρύσιππον εἰς ἀπόδειξιν τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονοῦν προσχρησάμενοι.
5.1.2. δείξαντες γάρ, ὡς μὲν αὐτοὶ νομίζουσιν, ἅπαντα τὰ πάθη συνιστόμενα κατὰ τὴν καρδίαν, ὡς δὲ τἀληθὲς ἔχει, τὰ κατὰ μόνον τὸν θυμόν, ἔπειτα προσλαβόντες ὡς ἔνθα ἂν ᾖ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ἐνταῦθ’ ἐστὶ καὶ τὸ λογιζόμενον αὐτῆς, οὕτως ἤδη περαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ τὸ λογιστικὸν ὑπάρχειν.
5.1.3. ἡμεῖς δὲ ὅτι μὲν ἐντεῦθεν ὁρμᾶται τὰ κατὰ τὸν θυμὸν ἀληθεύειν αὐτούς φαμεν, οὐ μὴν οὔθ’ ὅτι καθ’ ἕνα τόπον ἀναγκαῖόν ἐστι τό τε θυμούμενον εἶναι καὶ τὸ λογιζόμενον οὔθ’ ὅτι μιᾶς δυνάμεώς ἐστον ἔργα συγχωροῦμεν, ἀλλ’ ἀποδεικνύειν αὐτοὺς ἀξιοῦμεν, ὥσπερ τἆλλα τὰ κατὰ τὸν λόγον, οὕτω καὶ ὅτι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖόν ἐστιν εἶναι τῶν τε παθῶν καὶ τοῦ λογισμοῦ.

