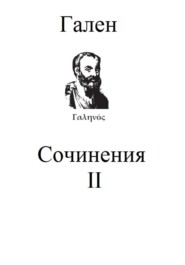 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 2
При описании подходов к лечению лихорадок Гален развивает традицию, заложенную в «Корпусе Гиппократа». Он предостерегает врачей от гипердиагностики: например, когда однодневная лихорадка ошибочно принимается за трехдневную. Дело в том, что однодневная лихорадка, происходящая, по преимуществу, вследствие психоэмоциональной травмы, требует, по мнению Галена, активной реабилитирующей тактики. Главные назначения – водные процедуры (ванны и баня) и скорейший возврат пациента к привычному образу жизни под контролем врача. Если характер пульса прямо не указывает ни на воспаление, ни на какое-либо заболевание сосудистой системы, а моча соответствует норме или незначительно отклоняется от нее, не следует поддаваться соблазну поиска сложных причин. Конечно, нужно изучить и другие симптомы, ранее описанные Гиппократом (Гален их перечисляет). Однако, «если они, подобно хору, все будут петь тебе единогласно, то нужно быть твердым, и, если хочешь, дополнительно спроси пациента, не было ли какой-либо явной причины, предшествовавшей заболеванию» (I, 2).
Потливость пациента, с учетом стрессорного характера возникновения болезни, является скорее аргументом в пользу однодневной лихорадки. Гален подчеркивает, что баня с ее гипертермическим эффектом полезна тем, кто, во-первых, получил лихорадку вследствие стресса, во-вторых – со стяжением кожи (здесь также уместен массаж с оливковым маслом), в-третьих – у кого лихорадка сопровождается опухолями в паху. Первым двум группам пациентов можно принимать пищу чаще, последним полезно воздержание от нее. Вино полезно всем, кроме тех, кто болеет от горя, гнева и забот. Последним вино можно пить, лишь избавившись от гнетущей страсти (I, 3).
Длительные, т. е. более чем однодневные, лихорадки, по мнению Галена, возникают в силу двух причин: из-за наличия в организме воспалительного очага или нарушения «благого», соразмерного смешения жидкостей (κράσις). В таком случае первые следует считать только симптомами другого заболевания и заняться поиском воспалительного очага, вторые – самостоятельной болезнью. Врачу следует путем наблюдения установить тип лихорадки – острый или продолжительный, непрерывный или перемежающийся. Для этого прежде всего необходимо обратить внимание на наличие озноба в первые дни болезни: сильный озноб в это время более характерен для трехдневной лихорадки. Конечно, следует учитывать и общее состояние пациента, так как перемежающаяся лихорадка, как правило, сопровождает заболевания «устья желудка», трехдневная – поражение печени, четырехдневная – селезенки (I, 4). Имеют значение «количество и качество жара», характер ощущаемого озноба, поведение сосудистой системы, оценивающиеся по пульсу. Однако не меньшее значение (и в этом Гален – вновь последователь Гиппократа) имеют «время года, территория, природа и возраст больного, а также то, что предшествовало болезни, и то, что следует за ней. Жар должен быть сильным и острым, удары пульса – сильными, горячими, быстрыми, частыми, без всякого отклонения от нормы, помимо лихорадочных изменений» (I, 4). Четырехдневная лихорадка, по мнению Галена, начинается с острого озноба, которому вначале соответствует редкий и медленный пульс. Далее, на высоте приступа, пульс становится быстрым и частым. Однако «сохраняются присущие ему медленность и редкость, если принять в расчет естественное при обострении увеличение частоты и скорости пульса» (I, 5). Последнее замечание может показаться современному читателю весьма странным: как же пульс может увеличиваться, сохраняя «медленность и редкость»? Понять эту и подобные ей трактовки, содержащиеся в тексте разбираемого нами трактата, можно только с учетом знаний о развитии теории пульса в античной традиции, предшествующей Галену. Первые упоминания о прогностической важности диагностики состояния пациента по пульсу мы встречаем уже в «Корпусе Гиппократа». Однако следует помнить, что для авторов «Корпуса Гиппократа» не существовало разницы между артериями и венами: для обозначения тех и других использовалось слово φλέβες – сосуды, и лишь в позднейшей традиции φλέβες стало обозначать непосредственно «вены». Считается, что Праксагор первым вводит важное в практическом плане различие между артериями и венами, однако по-настоящему определяющими в клиническом плане следует считать работы Герофила. Герофил считал, что динамика сокращения и расширения артерий определяется сердечной деятельностью. Это предположение прекрасно сочетается с его тезисом о том, что в артериях содержится не только «жизненный дух», но и кровь. При таком взгляде функция артерий как переносчиков питания для органов и тканей понимается совершенно верно; ведь функции поддержания нормальной жизнедеятельности частей тела как раз и должны быть обеспечены как кровью, так и соответствующим видом пневмы. Гален впоследствии поддержал и развил эту точку зрения, основываясь на традиции Гиппократа—Герофила в осознании артериального кровотока как способа обеспечения жизненных функций организма. В этом контексте оценка пульса пациента приобретала первостепенное значение.
Согласно Герофилу, пульс состоит из двух частей – систолической и диастолической, – отражающих сокращение и расширение артерий. Расширение (или диастолическая фаза пульса) трактовалось Герофилом как возврат к правильному и естественному состоянию стенок сосудов. Гален полагал, что подобное суждение Герофила обусловлено наблюдением видимого просвета артерий при вскрытии мертвых тел. Современному читателю это покажется неразумным, ведь смерть, очевидно, нельзя трактовать как естественное состояние живого организма. Это яркий пример того, что необходимо учитывать общефилософские представления врачей (т. е. «картину мира» ученого) при анализе их, казалось бы, сугубо медицинских воззрений. С точки зрения Герофила и Галена, в мертвом теле наблюдается состояние артерий как таковых, не испытывающих внешних воздействий со стороны других систем человеческого тела, а в живом организме на стенку артерии осуществляется внешнее воздействие, придающее дополнительную силу (ενέργεια). Соответственно, сужение артерий является следствием наличия этой дополнительной силы, а не их естественным состоянием. Именно поэтому Герофил связывает ощущаемый врачом при объективном исследовании артериальный пульс с его систолической фазой. Современному врачу это может показаться само собой разумеющимся. Однако это было важным открытием, ведь во времена Герофила (и вплоть до Галена) единства суждений по этому поводу не было. Ни методисты, последователи Эрасистрата, ни пневматики не верили в то, что в артериях содержится кровь, – по их мнению, в артериях циркулировала только пневма. Кроме того, многие из них, вслед за Праксагором, не видели связи между сердечной деятельностью и пульсацией артерий. Для Герофила эта связь была очевидной, что и привело к так называемому генерическому описанию пульса, разработанному им. Именно эту трактовку происхождения и значения пульса разделял Гален.
По мнению Герофила, пульс, наблюдаемый у разных пациентов, может отличаться по объему (массе), размеру, скорости, интенсивности (силе) и ритму. Различия наблюдений пульса могут легко распознаваться как отличные друг от друга по ритму, размеру, скорости и интенсивности. Однако пульс с одинаковым ритмом может отличаться скоростью, размером и интенсивностью. Эти соображения дают ключ к клинической классификации пульса по отношению к симптомам разных болезней.
Интенсивность пульса может меняться в зависимости от силы жизненного духа, циркулирующего в артериях. В случае избыточной силы этого вида пневмы пульс будет сильным, при недостаточной – слабым. Ритм пульса, таким образом, является движением, которое регулируется во времени[180]. Таким образом, становятся понятными рассуждения Галена о диагностике по пульсу. Особенности пульса, характерные, по мнению Галена, именно для четырехдневной лихорадки, при которой «начало и конец движения в сосудах оказываются гораздо более быстрыми, чем средняя фаза, при трехдневной же лихорадке бывает не так, ведь при ней такое ускорение бывает небольшим и только в самом начале и в самом конце» (I, 5).
Переходя к описанию перемежающихся лихорадок, Гален подчеркивает их «влажный» характер, уподобляет «дымному жару», смешанному с большим количеством пара (I, 6). Очевидно, что состояние гипертермии ассоциируется с патологическим преобладанием первоэлемента огня, который «тушится» «сильной влажностью». Из этого, как может показаться, умозрительного соображения следует важный с клинической точки зрения вывод: пик остроты расстройств функций организма может следовать за острым приступом лихорадки, непосредственно не совпадая с ним. Соответственно, врач должен это учитывать, дозируя количество и интенсивность применяемых терапевтических средств. Более того, логика «тушения огня» подтверждается практическими наблюдениями: при перемежающейся лихорадке рвота «содержит больше слизи, а выделения из желудка бывают более холодными, влажными, жесткими, водянистыми и также содержат больше слизи» (I, 6).
Соответственно, пациент с перемежающейся лихорадкой меньше страдает от жажды, ведь его тело переполнено дурно переваренными соками. Одной из причин, приводящих к этому состоянию, является малоподвижный образ жизни пациента, склонного к разным излишествам. Отделение пота не приводит к облегчению состояния пациента, как при однодневной лихорадке. Важное диагностическое значение имеет анализ мочи: «Моча же, которая выделится по прошествии приступа, укажет тебе на время всей болезни, та же, что будет в начале, укажет и на вид лихорадки. Ведь при перемежающейся лихорадке моча бывает белой, или водянистой, или плотной, или мутной, или красной, а при трехдневной – рыжей или рыжеватой» (I, 6).
Диагноз непрерывной лихорадки ставится при наблюдении непрерывного нарастания симптомов болезни в течение нескольких дней (вероятно, более трех) и подтверждается наличием в моче и кале признаков несварения пищи (I, 7). С практической точки зрения важным представляется замечание Галена о возможности бессимптомного течения заболевания, когда лихорадка в острой форме как бы исчезает, но патологические процессы в организме усиливаются. Основным доступным способом лечения, конечно, является диета: «Ведь не следует при приближении высшей точки болезни начинать питаться плотнее, чем раньше, но, напротив, наименее плотное питание за весь период болезни должно приходиться на высшую точку болезни» (I, 8). Гален также отмечает, что этот принцип является общим для всех лихорадок. Иллюстрируя важность этого тезиса, он предостерегает от опасности ложного диагностирования трехдневной лихорадки, когда вследствие преобладания флегмы у пациента имеется другое, длительно текущее заболевание. В таком случае вместо диеты и мероприятий, направленных на разгрузку и детоксикацию организма, пациент получает неверное и избыточное питание, ухудшающее его самочувствие. По ходу изложения Гален, следуя гиппократовской традиции, подчеркивает необходимость комплексной оценки состояния больного, учета внешних факторов, влияющих на течение болезни (I, 8). Это крайне важно, ведь подобный подход определяет качество прогноза течения болезни: «Невозможно понять, смертельна болезнь или нет, и что более вероятно – смерть человека или окончание болезни, если, точно оценив количество каждого из перечисленных факторов, не сведешь их к двум основным – силе болезни и силе больного» (I, 8).
Трехдневная лихорадка, по мнению Галена, определяется преобладающим движением желтой желчи, которая считалась самой «горячей и сухой» из всех жидкостей тела (I, 9). Исходя из базового принципа терапии в системе Гиппократа и Галена – лечение противоположного противоположным, – борьба с этим заболеванием должна была состоять в том, чтобы усиливать «влажность и холод, насколько возможно». По мнению Галена, оптимальным способом борьбы с патологическим преобладанием желтой желчи в животе с ее чрезмерным количеством в нижних частях тела является очищение рвотой и стимуляция выделительных органов. Пациенту с трехдневной лихорадкой показаны водные процедуры, но только в той степени, которая необходима, «чтобы оросить и увлажнить тело». Диета должна быть щадящей и состоять из легко перевариваемых продуктов.
Формулируя цель терапевтических воздействий при трехдневной лихорадке, Гален афористичен: силы больного должны превзойти силу болезни. Отсюда – общая рекомендация поддерживать должное равновесие между воздержанием от пищи, благотворным в краткосрочной перспективе (с точки зрения очищения организма), и диетой, необходимой для сбалансированного питания в целях поддержания сил организма (I, 10). Разумным подходом Галену кажется прием пищи через день, употребление напитков, стимулирующих пищеварение, применение очистительных клизм и теплые компрессы на область подреберья. При необходимости можно применять мочегонные средства, в исключительных случаях – кровопускание.
Четырехдневную лихорадку, по мнению Галена, следует вести «умеренно и кротко», не прибегая к сильным лекарствам и слишком интенсивным очистительным процедурам (I, 11). Серьезной потенциальной опасностью для пациента является неожиданное развитие апоплексического удара, обусловленного чрезмерным избытком крови. В этом случае следует прибегнуть к венотомии, также обязательны очистительные клизмы и диета с исключением труднопереваремых продуктов. От физических нагрузок, массажа и т. п. следует воздержаться, пациенту показан покой. Естественно, что если приступ переносится легко, то можно вернуться к прежнему режиму физических упражнений.
Перемежающаяся лихорадка требует применения лечебных трав, которые Гален называет «режущими» (I, 12). Речь идет о желчевыводящих и рвотных средствах, сильных диуретиках, с первых дней рекомендуется прибегать к смеси уксуса и меда. Добившись нормализации пищеварения, следует сосредоточить усилия на снижении температуры и переходить к реабилитирующей диете.
Далее Гален подробно разбирает лихорадки, сопряженные с развитием дополнительных симптомов, явно не имеющих непосредственного отношения к наблюдаемому основному заболеванию. Сочетание заболеваний различных частей тел или лихорадку, сочетающуюся с каким-либо местным заболеванием, Гален часто называет «сложными болезнями» и призывает к осторожности в назначениях (I, 13).
Рассуждая о сочетании лихорадок разных видов с другими болезнями, Гален вновь возвращается к принципу лечения противоположного противоположным, оговаривая важность щадящей индивидуальной тактики ведения больного. Так, например, по его мнению, не следует прибегать к интенсивному выведению жидкостей, если пациента мучают бессонница и головные боли. Крайне опасно применять кровопускание без строгого учета показаний. Особенную избирательность в выборе тактики врачу следует проявлять при лечении сложных болезней (I, 13).
Рекомендации, которые автор дает в указанном фрагменте, часто туманны, изобилуют оговорками, иногда носят взаимоисключающий характер: «Обморок, вызванный обильным выделением жидкости, особенно в тех случаях, когда речь идет о выделениях в брюшную полость, хорошо лечится также вином, смешанным с холодной водой. Однако следует смотреть, нет ли к этому средству каких-либо противопоказаний, например, нет ли воспаления какого-либо органа, или сильной головной боли, или затуманивания рассудка, или лихорадки с сильным жаром при несварении» (I, 13). Однако это лишь кажущиеся противоречия. Гален проявляет здравый смысл опытного врача, прекрасно понимающего комплексный характер воздействия на организм любого лечебного средства. При сочетании нескольких недугов положительное воздействие на одно заболевание может привести к осложнению другого. Именно поэтому в этом фрагменте Гален приводит множество клинических примеров, пытаясь с их помощью передать свое интуитивное видение индивидуального выбора лечебного средства: «При заболеваниях разной локализации надо назначать соответствующие лекарства: при болезнях желудка, матки, органов брюшной полости и груди – увеличивающие тонус, при болезнях головы и лба – охлаждающие. При разрыве же поверхностных сосудов или сосудов, находящихся в ноздрях, следует назначать кровоостанавливающие средства» (I, 13).
Не случайно, что в завершающей части тринадцатого фрагмента Гален прибегает к натурфилософским категориям, чтобы прояснить свою врачебную аргументацию. Сложные заболевания способны быстро подорвать возможности организма пациента сопротивляться им. Гален-философ вспоминает о «жизненном духе» (или «жизненной силе») – одном из трех видов пневмы, исходящем из сердца. О его недостатке мы, разумеется, можем судить по слабому пульсу. «Сила, исходящая из печени и называемая питательной», также иссякает по мере угасания организма, что «определяется по выделениям, в которых сначала появляется кровь, и они становятся водянистыми и немногочисленными, а потом они становятся плотными, как отстой оливкового масла». Недостаток же силы, исходящей от мозга, «которую некоторые называют душевной», определяется по слабости преднамеренных движений (I, 13). В конечном счете при сложном заболевании, когда все опасности, таящиеся в непредсказуемом приступообразном течении лихорадки, отягощаются какой-либо патологией, крайне важен правильный прогноз. Именно меры, принятые при наступлении максимального обострения, могут помочь переломить ситуацию: «Лучше же всего в таких случаях постараться спрогнозировать развитие болезни и сделать все это заранее, до приступа. И в тех случаях, когда больной во время приступа болезни теряет сознание из-за обезвоживания, лучше всего постараться предугадать такое развитие в самом начале приступа» (I, 13).
Наблюдая за пациентом, врач должен быть крайне внимателен, чтобы при изобилии разнообразных симптомов не упустить верное понимание самого заболевания, – это особенно важно при так называемых сложных болезнях. Следует внимательно оценить болевой синдром: локализацию боли, ее интенсивность и характер. В этом контексте очень интересен клинический пример, разбираемый Галеном (I, 14): пациент жалуется на головную боль, которая причиняет ему наибольшее страдание. Однако в процессе обследования врач может выяснить, что пациент страдает изжогой или каким-либо заболеванием желудка. В таком случае искусственно вызванная рвота может вызвать облегчение, и в рвотных массах будет содержаться либо слизь, либо желчь. Таким образом, Гален дает понять, что за симптомами, проявляющимися в одной части тела, может стоять болезнь совершенно другой. Любой современный врач прекрасно понимает значимость подобных рассуждений: например, жалобы пациента на боль в области сердца могут быть проявлениями заболевания грудного отдела позвоночника или желудка.
В случае если у пациента нет болезни желудка, следует изучить локализацию боли («простирается ли боль по всей голове, или является более сильной в одной ее части») и ее характер (она ощущается как «тяжесть в голове или носит тянущий, ноющий характер, является пульсирующей или «кусающей»). Тяжелая боль, по мнению Галена, – признак переполнения, а «кусающая» – «едкости паров или соков». Следующим этапом должно стать объяснение причин такого переполнения или едкости и лечебное воздействие на эти причины. Здесь Гален обращается к очень важному в его клинической системе понятию «кризис». Еще раз подчеркнем, что кризис болезни, в понимании Галена, означает нечто существенно отличающееся от современной дефиниции этого термина. Кризис, по Галену, не всегда означает ухудшение состояния организма пациента: это просто момент достижения патологическим процессом некой точки, в которой возникает возможность его разрешения. Неправильная лечебная тактика, выбранная врачом в момент кризиса, сопряжена с возможным ухудшением состояния пациента или даже его смертью. Именно поэтому Гален постоянно предостерегает от диагностических ошибок, главной из которых он считает неверную классификацию болезни. Не случайно именно с предостережения от неверной классификации он начинает разбираемый нами трактат. Здесь необходимо пояснить: неверная классификация на языке Галена-врача означает то, что в наши дни мы называем неверной диагностикой. Ввиду крайней ограниченности своих инструментальных возможностей Гален вынужден в основном наблюдать за пациентом, готовясь в нужный момент использовать доступный арсенал терапевтических средств. Именно поэтому его рассуждения о кризисах несколько фаталистичны: если, по расчетам врача, кризис соответствующей болезни должен наступить на седьмой день, то при минимальных усилиях «и при малом потрясении природы может случиться разрешение болезни через обильные выделения». На шестой день требуются «великие приготовления», которые часто не приводят к разрешению. Однако даже если разрешение на шестой день и наступает, «то оно небезопасно и ненадежно». Ожидание кризиса должно осуществляться в режиме активного динамического наблюдения за пациентом, ведь «любому кризису предшествует состояние, когда больной начинает тяжело переносить свою болезнь». По логике Галена, разрешение кризиса происходит через разные выделения: больному может стать легче после обильного носового кровотечения, интенсивных выделений или испражнений. Отметим, что такая логика активного наблюдения за пациентом останется основой клинической практики вплоть до второй половины XIX в., – достаточно почитать труды, например, Р. Вирхова[181]. Отсюда следует весьма жесткий вердикт Галена в отношении коллег, не владеющих искусством прогностики: «Мне же кажется, что совсем не сложно, имея те или иные признаки предстоящего кровотечения, прогнозировать его; напротив, мне кажется, что не сделать такой прогноз – нелепо и признак невежества. Однако из-за легкомыслия современных врачей удивительным кажется даже то, что совершенно не удивительно. Ведь по перечисленным выше признакам несложно определить, пойдет ли кровь из левой или из правой ноздри» (I, 14). На этом завершается первая книга Галена к Главкону о методе лечения, задачей которой было рассуждение о сложных болезнях, затрагивающих организм в целом.
Во второй книге трактата повествуется о подходах ее автора к заболеваниям отдельных частей тела. Первой из таких болезней является воспаление. Гален сразу же отмечает обязательное для этого заболевания сочетание местных и общих явлений – жара, лихорадки и кожных проявлений. Воспаления, по его мнению, делятся на два вида – влажные и сухие. Влажные воспаления являются следствием патологического притекания горячих соков к той или иной части тела, сухие развиваются, «когда нечто не притекает, но часть тела жжет ее собственный жар». Влажное воспаление классифицируется в зависимости от патологического преобладания той или иной жидкости: «когда натекает кровь», «когда натекает желтая желчь», когда имеется «и то, и другое» (II, 1).
Итак, воспаления бывают разные, но все они сопровождаются лихорадкой и сильным, палящим жаром. Вместе с тем разные воспалительные заболевания имеют свои особенности течения и, соответственно, требуют разного лечения (один подход к герпесу, другой – к рожистому воспалению и т. п.). Болевой синдром при воспалительном заболевании, по мнению Галена, обусловлен сжатием ткани изнутри под давлением патологически накопившейся жидкости. Причиной его может быть любое внешнее воздействие (рана, ушиб, разрыв, вывих или перелом). Однако дополнительно необходимо, чтобы где-то в теле скопилось чрезмерное количество соков и горячий сок излился в какое-либо место, – такое слабое место и создается посредством внешнего воздействия. Именно этим обусловлено развитие местных воспалительных реакций. «Также эту часть тела покрывает краснота, как бывает у омывшихся горячей водой, обжегшихся огнем или нагревшихся каким-либо иным образом. Этот вид страдания и стал причиной того, как был назван весь этот тип заболеваний, поэтому он и называется “воспаление”, причем это название прижилось и для многих других видов заболеваний, близких этому» (II, 1). В соответствии с видом преобладающей патологической жидкости и характером ее накопления выделяются конкретные заболевания. Так, преобладание желтой желчи, распространяющейся по всему телу вместе с кровью, приводит к желтухе. Когда желтая желчь отделяется от крови и застаивается в одной части тела, говорят о герпесе. Мы встречаем описание многих воспалительных заболеваний – рожистого воспаления, карбункула, воспалительных заболеваний желез и т. д. (см. II, 1). В целом они часто совпадают с современным пониманием этих терминов. Конечно, это происходит не всегда, ведь почти за две тысячи лет, которые разделяют нас с временами Галена, интерпретация многих понятий изменилась. В этом контексте следует вернуться к Р. Вирхову – выдающемуся немецкому врачу и патологу XIX в., который является основателем клеточной теории патологии, занимающей важное место среди фундаментальных понятий современной медицинской науки. Однако даже в его работах мы встречаем примеры употребления терминов в смысле, отличающемся от современного. Например, в наши дни «дифтерия» означает заболевание верхних дыхательных путей, вызываемое конкретным микроорганизмом. Однако в работах Р. Вирхова под этим термином понимается распространенный, тяжелый воспалительный процесс, охватывающий одновременно несколько прилежащих друг к другу органов брюшной полости. На наш взгляд, этот пример должен избавить современных врачей от соблазна снисходительно-пренебрежительно относиться к семиотике Галена, что характерно для науковедческой концепции презентизма.

