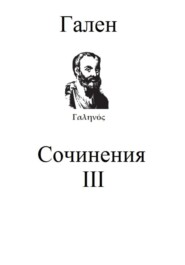 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 3
3.5.20. Но если бы я решил тщательно исследовать все его рассуждения, чтобы ни одна ошибка не осталась неразобранной, то растянул бы книгу до бесконечного размера.
3.5.21. Итак, здесь я оставляю то, о чем писал раньше, и перехожу к следующему, где Хрисипп начинает представлять свидетельства поэтов, вставляя немногие свои слова посреди них, то как толкование смысла цитаты, то как некую эпитому, то есть краткое изложение главного.
3.5.22. Так вот, начиная с некоего изречения Эмпедокла, он истолковывает и вводит в оборот некоторые более важные положения, среди которых есть и одно о звуке, которое я упомянул во второй книге этого сочинения. В этой же книге мне хотелось представить те доводы, которые имеют убедительность, не заслуживают того, чтобы их отбросить сразу, и не призывают в свидетели ни женщин, ни простолюдинов, ни этимологию, ни движения рук, ни наклоны и кивки головой, ни поэтов. Вот на этом я хотел остановиться, не присоединяя к этому ничего из только что перечисленного мной.
3.5.23. Но моим друзьям показалось, что не следует обходить молчанием и совершенно бессмысленное пустословие Хрисиппа, но стоит отмечать нелепость его доводов и показывать, что они не только не могут быть использованы как доказательства мнений стоиков, но даже свидетельствуют против них. Поэтому я и вставил все это в настоящую книгу.
3.5.24. Нет нужды опять говорить в этой книге о звуке, так как я достаточно осветил эту тему в предыдущей книге, упомяну лишь то, что сказано в книге Хрисиппа вслед за этим рассуждением.
3.5.25. Я имею в виду рассуждение о движениях рук, когда мы прикасаемся к груди, показывая на самих себя, и слове «ἐγὼ» (я), о чем он говорил в «Этимологиях»: он утверждает, что и это слово содержит в себе некое очевидное указание, которое состоит в том, что на первом его слоге подбородок и губа как бы направляются вниз к груди.
3.5.26. Я говорил об этом здесь во второй книге и в сочинении «О правильности имен»[293].
3.5.27. Сходно с этими умозаключениями и то, что затем, в первой книге сочинения «О душе» Хрисипп пишет относительно этимологии слова «сердце», а именно:
3.5.28. «Соответственно всему этому, сердце (καρδία) получило свое название благодаря особой силе и главенству, то есть благодаря тому, что в нем заключается главенствующая и повелевающая часть души, поэтому оно, можно сказать, называется “сила” (κρατία)»[294].
3.5.29. Мы не станем, о благороднейший Хрисипп, спорить с тем, что это наиболее важный орган для поддержания жизни, но мы не согласны с тем, что это вообще главный орган живого существа.
3.5.30. Природа не дала сердцу управлять и руководить всем, – я имею в виду случай, когда у человека все устроено надлежащим образом, – но, как мы доказываем, мозгу надлежит управлять, а сердцу – подчиняться.
3.5.31. Следом за сказанным Хрисипп пишет так: «Наша основа находится в этой части тела, мы пребываем в согласии с ней, и все органы чувств простираются к этой части»[295].
3.5.32. Только этот итог – из научных посылок, и если бы Хрисипп еще и доказал это, мы бы воздали хвалу этому мужу и уверовали бы в учение стоиков.
3.5.33. Но поскольку он даже не попытался доказать это, а лишь сделал заявление, – мы же ранее уже показали, что все это рождается не в сердце, но что начало всему этому есть головной мозг, и далее собираемся привести этому дополнительные доказательства, – я думаю, верить следует не мнению Хрисиппа, но мнению Гиппократа и Платона.
3.5.34. Но именно это, то есть самое главное и основное в обсуждаемом нами учении, Хрисипп излагает мельком, как бы на бегу, а о том, что вовсе не стоит упоминания, говорит чрезвычайно пространно.
3.5.35. Затем он упоминает о речи и об источнике нервов; обе эти темы рассматривались мной в предыдущих книгах.
3.5.36. После этого он рассматривает оборот «лишенный сердца», о котором мной было сказано прежде, теперь же я разберу рассуждение Хрисиппа постольку, поскольку оно подтверждает то, что я сказал ранее.
3.5.37. Он говорит так: «Соответственно этому некоторые из людей называют “благо-сердечными” (εὐκάρδιοι), точно так же, как “благо-душными” (εὔψυχοι), и у тех, кто печалится о других, как говорят, “сердце болит”, то есть считается, что страдание от скорби возникает в сердце»[296].
3.5.38. Этим высказыванием Хрисипп точно свидетельствует в нашу пользу, то есть подтверждает, что разумное начало души ни у кого из простолюдинов решительно никогда не считается находящимся в сердце. Точно так же и «лишенный сердца» означает у них не «неодушевленный», как думает Хрисипп, но «робкий».
3.5.39. Так же они говорят «сердце болит», имея в виду, что человек испытывает скорбь, что и сам он свидетельствует в только что приведенном отрывке, когда говорит, что «страдание от скорби возникает в сердце».
3.5.40. Таким образом, во всех своих рассуждениях Хрисипп, сам того не замечая, помещает в частях, находящихся ниже головы, страсти души, но не ее разумную часть, которая получает знание и стремится к истине.
3.5.41. Также когда он далее прибавляет: «Итак, в общем, как я сказал в начале, со всей очевидностью обнаруживается, что страх и скорбь возникают именно в этой части»[297], он свидетельствует как раз в пользу мнения Платона.
3.5.42. И в приведенном далее отрывке он вновь, сам того не замечая, подтверждает, что страстная часть души расположена в сердце:
3.5.43. «Очевидным признаком страха является сердцебиение и “сосредоточение” всей души в этом месте. Но это не просто вторичное явление, возникающее как результат естественного “сочувствия” одной части другим, – поскольку люди в этом случае “прижимаются” к самим себе и привлекаются к этой части как к ведущей, а сердце оказывается словно ее защитником.
3.5.44. И связанные со скорбью переживания естественным образом возникают где-то здесь, так что никакое другое место не ощущает “сочувствия” или сострадания. Ведь когда возникающие при этом мучения становятся сильными, ни в каком ином месте эти переживания не проявляются, и только в области сердца они более всего заметны»[298].
3.5.45. Мы скажем, что все это говорится Хрисиппом истинно, и посоветуем его сторонникам помнить это и больше не добиваться от нас другого доказательства в защиту того, что страхи и страдания и другие подобные страсти собираются в сердце.
3.5.46. Но это принимается и самими стоиками, ведь не только Хрисипп, но и Клеанф, и Зенон с готовностью подтверждают это; необходимо исследовать только то, в чем заключается весь спор, а именно, здесь ли находится разумная часть.
3.5.47. Итак, рассуждения Хрисиппа, уже многократно повторенные, ясно показывают, что яростная часть содержится в сердце, а мы, со своей стороны, привели доказательства, сходные с этими и еще более сильные, касающиеся местоположения разумной части в головном мозге. Итак, если составить вместе эти два доказательства, что иное они будут доказывать, как не мнение Платона и Гиппократа?
3.6.1. Поскольку мы подошли к этому в своем рассуждении, то имеет смысл здесь напомнить учение о научных доказательствах, которое было подробно изложено мной в предыдущей книге, где я перечислил посылки, из которых доказывается то или иное положение.
3.6.2. Ведущий принцип состоит в том, что необходимо брать за точку отсчета главные и второстепенные свойства того или иного внутреннего органа, а свойства эти для каждого органа в отдельности мы перечислили ранее.
3.6.3. А главные из этих свойств таковы: прежде всего, головной мозг является началом для органов, которые передают ощущения и произвольные движения во все члены живого существа и называются нервами, так же как сердце – для артерий.
3.6.4. Далее, следует учесть, что при сжатии и повреждении желудочков головного мозга животное немедленно впадает в ступор, однако движение в артериях и в сердце не останавливается, но когда сходным образом мы поступаем с сердцем, движение в артериях прекращается, а животное нисколько не обнаруживает повреждения ни в ощущении, ни в любом движении.
3.6.5. Мы показали, что ни один из этих двух органов не дает силы другому: ни сердце не управляет головным мозгом в отношении ощущений и произвольных движений, ни головной мозг сердцем – в отношении пульсации крови, но каждый из этих органов является как бы источником соответствующей функции.
3.6.6. Здесь в качестве доказательства можно привести наблюдение, о котором мы будем много говорить в последующих книгах. Так, при поражениях головного мозга животное начинает вести себя безумно или теряет способность двигаться или ощущать, если же повреждено сердце, животное теряет силы и погибает, однако ничего из перечисленного выше с ним не происходит.
3.6.7. Итак, поскольку дело обстоит таким образом, говорящие, что нервы выходят из сердца, могут говорить это и писать, как они говорят и пишут и о многом другом, но доказать это опытами на животных они не могут.
3.6.8. Из сказанного следует, что разумное начало, из которого произрастают нервы, находится в головном мозге; а многословные рассуждения Хрисиппа о сердце доказывают не то, что этот внутренний орган мыслит, но то, что он испытывает гнев, страх и скорбь, а все эти действия и страсти относятся к яростной части души.
3.7.1. Сейчас необходимо напомнить то, что я сказал прежде в этом сочинении, а именно что Хрисипп вслед за приведенным рассуждением снова необдуманно выводит обе силы из одного органа, не добавляя ни одного убедительного или правдоподобного доказательства, что станет ясно из следующего рассуждения, написанного им в том же духе:
3.7.2. «Поэтому нелепо им что-нибудь отрицать в связи с этим, – скажут ли они, что скорбь, беспокойство и душевная боль не являются муками, или же скажут, что это муки, которые возникают в ином, нежели ведущее начало, месте.
3.7.3. То же самое мы скажем и о радости, и об отваге, которые явно обнаруживают свое возникновение в области сердца.
3.7.4. Ведь когда у нас болит нога или голова, то боль возникает именно в этих местах. Точно так же мы чувствуем, что муки скорби возникают в груди; и не бывает так, что скорбь – это не мука или что она возникает не в ведущем начале, а в каком-нибудь другом месте»[299].
3.7.5. На это рассуждение справедливо ответить Хрисиппу по каждому из основных затронутых им вопросов, начиная с первого, а именно с его заявления, что страдание, тревога и боль являются муками.
3.7.6. Если бы кто-нибудь привел нам этот довод в виде проблемы для дискуссии, как Хрисипп, или в виде утверждения, мы бы согласились с этим доводом и сказали, что скорбь, беспокойство и душевная боль по роду своему принадлежат к разряду мук, или скорее, если уж пользоваться общеупотребительными в языке эллинов названиями, страданий и печалей: эти названия ничем друг от друга не отличаются, как «столб» и «колонна» или «очи» и «глаза»; причем тревога и скорбь есть видовые названия, относящиеся к общему роду скорби.
3.7.7. А вот в том, что скорби проявляются в области руководящей части, мы уже не согласимся с Хрисиппом, который утверждает, что скорби собираются в руководящей части. Ему следовало бы привести доказательства того, что обе силы вселились в один и тот же орган.
3.7.8. Однако что я говорю «в один и тот же»? Ведь тогда следует спорить не с Хрисиппом, но с Аристотелем, который признает, что у нас в душе есть многочисленные силы, отличающиеся по роду, но не помещает их в разные органы, а хочет, чтобы началом всему было сердце.
3.7.9. Хрисипп же не признает ни того, что эти силы отличаются друг от друга, ни того, что благодаря одной силе животное раздражается, благодаря другой – стремится, благодаря третьей – мыслит.
3.7.10. Следовательно, мы не должны ставить вопрос таким образом, как мы сделали это только что, требуя от него доказательств того, что яростная, разумная и вожделеющая части находятся в одном и том же месте живого существа.
3.7.11. Итак, прежде всего необходимо потребовать от Хрисиппа или от кого-нибудь из его сторонников произвести исследование этого вопроса, а именно установить и доказать, что разуметь, сердиться, желать пищи, питья и любовных утех есть заботы одной и той же силы.
3.7.12. Ведь мы, со своей стороны, ясно показываем, что это отличается у бессловесных животных, а также у детей, которые совсем не пользуются разумом, но, подобно диким животным, находятся в рабстве у сильнейших эмоций и желаний.
3.7.13. И тот из нас, кто более всего пользуется разумом, вовсе не является страстным и пылким, кого же ведет одна из неразумных частей души, тот мало пользуется разумом.
3.7.14. Здесь следует вспомнить Медею Еврипида и Одиссея Гомера, в которых одна часть души восстает против другой, обнаруживая явно, что они – не одно и то же, и в более мудром муже побеждает лучшее, в невежественной варварке – худшее.
3.7.15. Так же случается в душе у многих людей: разумная часть борется то с яростной, то с вожделеющей.
3.7.16. Однако Хрисипп и прочие стоики затеяли битву и относительно бессловесных животных, заявляя, что они не имеют желаний, – я уже говорил о бесстыдстве этого заявления; вопрос о детях они запутывают то так, то эдак, при этом все они говорят разное, но все с одинаковым бесстыдством отрицают очевидные вещи.
3.7.17. Но об этом я подробно расскажу в последующих книгах. Точно так же они говорят и о различных страстях души, противореча и очевидности, и друг другу, и самим себе.
3.7.18. Я решил изложить все это в четвертой книге, поскольку эта третья разрослась из-за просьб друзей, полагающих, что не следует оставлять без внимания даже самое нелепое из написанного Хрисиппом, но необходимо опровергать все.
3.7.19. Я, со своей стороны, предпочел бы вовсе не вспоминать те слова Хрисиппа, которые он сам считал избыточными и сравнивал с речами школьного учителя или болтливой старухи. А все остальное я разделил пополам: в предыдущей книге я изложил самое надежное из всего, а исследовать вопросы о страстях души я решил в этой, третьей книге.
3.7.20. Итак, если Бог сохранит нас, разумеется, мы это сделаем. Поскольку мы решили напомнить в начатой книге все, что сказал Хрисипп, исследуя руководящую часть души в первой книге «О душе», то теперь подходящий момент соединить оставшееся с тем, что уже было сказано.
3.7.21. Итак, после приведенного ранее отрывка Хрисипп пишет: «Нижеследующие выражения также находятся в согласии с этим естественным убеждением. Мы говорим “я коснулся твоего сердца”, имея в виду душу, и “я касаюсь сердца” – не в том смысле, что кто-то вошел в нас, дотронувшись до мозга, внутренностей или печени, но в смысле приведенных выше выражений.
3.7.22. Ведь, на мой взгляд, именно такого рода выражениями пользуются, когда говорят “я касаюсь твоего нутра”, если обида проникла уж очень глубоко. Мы же используем слово “сердце” в смысле “душа”. Эти вещи станут ясными при более внимательном рассмотрении»[300].
3.7.23. Помимо того, что это рассуждение ничего не доказывает, но призывает в свидетели простолюдинов, оно еще и пытается доказать не то, что предложено для доказательства, но то, что страстная и неразумная, а вовсе не разумная часть души находится в сердце. Поэтому не следует подробно останавливаться на этих рассуждениях, так как содержащиеся в них нелепости подобны тем, которые я уже неоднократно здесь изобличал.
3.7.24. После приведенного выше рассуждения идет другое, в котором он истолковывает значение выражений «лишенный нутра» и «безмозглый»; об этом рассуждении уже было сказано достаточно.
3.7.25. После этого он пишет следующее: «Как раз в соответствии с этим естественным убеждением, как мне кажется, люди, особенно склонные наказывать других, стремятся “вырвать его” сердце; и когда они укрепляются в этом убеждении, они таким же образом относятся и к прочим внутренностям»[301].
3.7.26. Здесь опять Хрисипп каким-то образом не заметил, что доказал совсем не то, что собирался доказывать. Ведь угрожая кому-то, иногда говорят, что выбьют им глаза, или разобьют голову, или сломают ногу, и таким же образом говорят, что «вырвут сердце», что значит «убьют».
3.7.27. Но какое отношение это имеет к настоящей проблеме? Люди часто угрожают друг другу и уши отрезать, и нос, и на части порвать, или, например, у Поэта некая женщина произносит следующее пожелание:
«<Лютого мужа>, которого печень, если б могла я,Впившись в грудь, пожирать, <отомстила б за то, что он сделал>»[302].3.7.28. Итак, что же мы не считаем печень началом души, дражайший Хрисипп, имея свидетельство Гомера, такого поэта, которому было бы более справедливо поверить, чем простолюдинам? Вот что, помимо прочего, еще он написал о печени:
3.7.29. «Тития также я видел, рожденного славною Геей.Девять пелетров заняв, лежал на земле он. СиделоС каждого бока его по коршуну; печень терзая,В сальник въедались ему. И не мог он отбиться руками.Зевсову он обесчестил супругу Лето, как к ПифонуЧрез Панопей она шла, хоровыми площадками славный»[303].3.7.30. Здесь поэт ясно показывает, что вожделеющая часть души находится в печени. Он говорит, что поскольку Титий хотел дерзко поступить с Лето, за это коршуны пожирают его печень, таким образом наказывая именно то, что положило начало дерзости.
3.7.31. Но здесь я одобряю Хрисиппа, сознательно умолчавшего о том, что опровергает его учение.
3.7.32. А когда он вызывает свидетелей, которые либо не сообщают ничего, либо свидетельствуют против него же, он, я считаю, не понимает, какое утверждение из какого следует и какое какому противоречит, как, например, в дальнейшем рассуждении, следующем за приведенным, где он говорит: «Очевидно, что переживания гневающихся людей возникают в области груди, равно как и переживания влюбленных; поэтому вожделение возникает именно в этих местах»[304].
3.7.33. По поводу каждого из таких изречений следует сказать: «Какое отношение, о Хрисипп, это имеет к разумной части, которой посвящено наше исследование?» Ведь вопрос был не в том, возникают ли у гневающихся или желающих страсти в груди или в области грудной клетки, но здесь ли находится разумная часть.
3.7.34. Далее он пишет так: «Как я сказал, все сказанное весьма хорошо подтверждают возникающие у нас вопросы по поводу словесных выражений и тому подобного. Ибо во всех отношениях разумно предположить, что там, где все это происходит, в этой же части происходит и выход разумной речи, и с помощью этой части мы говорим и размышляем»[305].
3.7.35. Ты пишешь правильно, о Хрисипп. То, с помощью чего мы рассуждаем про себя или размышляем в молчании, и есть разумное начало.
3.7.36. Но наш вопрос с самого начала состоял в том, головной мозг или сердце является мыслящим. Тебе следовало бы доказывать свой тезис, а не брать первую посылку, с которой согласны все, и считать, что сделал, таким образом, что-то новое для обнаружения искомого.
3.7.37. Разумеется, нет никого, кто не согласился бы, что руководящая сила души находится в том органе, с помощью которого мы исследуем и размышляем.
3.7.38. Но исследуемый вопрос состоит не в этом, а в том, является ли этим органом сердце, чего ты не доказал, поскольку ты не говоришь, что кто-либо, размышляя, ощущает движение в области сердца.
3.7.39. Однако в самом начале своего сочинения ты сделал такое заявление: «Таким образом, место явно ускользает от нас, раз у нас не возникает ясного ощущения о нем (как возникло о других частях) и не находится никаких знаков, на основании которых можно было бы вывести об этом заключение. В противном случае не возникло бы такого большого расхождения среди врачей и философов»[306].
3.7.40. Если Хрисипп, сказав это, заявляет далее в этой же книге, что мы ощущаем, что размышления рождаются в сердце, это означает, что он не помнит самого себя и лжет вопреки очевидным фактам.
3.7.41. Но не таков этот человек: он не мог сказать, что именно благодаря ощущениям люди распознают зарождение обсуждавшихся ранее явлений в сердце! Конечно же, он собирается аргументировать это положение не ощущениями, а доказательствами – и мы с удовольствием их послушаем!
3.7.42. Итак, как я понимаю, теперь он собрался привести доказательство от звучащей речи. Я сужу по следующему: «Ибо, – говорит он, – речь должна быть от рассудка, – и внутренняя речь, и голос, обращенный к самому себе, и мышление, и обращение к самим себе, и обращение вовне»[307].
3.7.43. Он берет как нечто общепринятое, что звучащая речь и речь, обращенная к самому себе, есть функции одного и того же органа, затем добавляет посылку о том, что звучащая речь есть функция сердца, и из этих двух посылок делает заключение, что и внутренняя речь является функцией сердца.
3.7.44. Но в предыдущей книге мы показали, что негоден довод Зенона о том, что речь посылается от сердца, так что и сформулированный теперь Хрисиппом довод вместе с тем, прежним, совершенно опровергнут.
3.7.45. Далее, рассмотрим следующее: «Соответственно этому и стоны исторгаются оттуда же»[308]. А мы скажем, о Хрисипп, что и стоны, как и речи, посылаются из грудной клетки и из легких, а не из сердца, как не посылаются из него и речи.
3.7.46. И для того, и для другого мы это доказали, а не заявили безо всякого доказательства, как ты теперь.
3.7.47. Далее Хрисипп приводит множество стихов, которые большей частью опровергают его самого, как я показал прежде.
3.7.48. Среди этих стихов находится очень немногое, но даже в этом содержится противоречие Хрисиппа с самим собой, как я покажу в следующей книге, в которой я решил рассказать о страстях души.
3.7.49. В настоящей же книге приведу только одну из этих фраз, а именно: «Но Поэт, который более чем достаточно говорит об этих вещах, показывает во множестве стихов, что и разумная, и пылкая части находятся в этом месте, сводя их воедино, – как собственно, и следует»[309].
3.7.50. Здесь он явно признает, что разумная часть есть нечто иное, чем яростная и вожделеющая, и говорит, что она находится в сердце, а это – учение Аристотеля, а не стоиков.
3.7.51. Далее он заявляет, что собирается привести стихи, где Поэт помещает разумную часть в сердце, и добавляет: «В этих стихах он показывает, что и вожделеющая часть находится там же:
“…такая любовь никогда, ни к богине, ни к смертной,В грудь не вливалася мне и душою моей не владела!”»[310]3.7.52. И затем: «Что и пылкая часть находится где-то там, он показывает в таких стихах (которых на самом деле гораздо больше)[311]:
“Гера же гнева в груди не сдержала, воскликнула к Зевсу[312]”и еще:
“Гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит”»[313].3.7.53. Во всех этих отрывках Хрисипп признает, что у души есть яростная и вожделеющая части, отличающиеся от разумной. Но об этом, как я сказал, я буду говорить в четвертой книге.
3.7.54. Здесь, бегло разобрав оставшиеся положения книги Хрисиппа, я и закончу настоящую книгу.
3.7.55. После множества стихов Хрисипп далее рассуждает об источнике звука, речи и нервов и о том, что с этим связано, и это единственное в его книге, что приличествует мужу-философу. Но все это мы разобрали в предыдущей книге, пропуская только крайнее пустословие.
3.8.1. Теперь же, в этой книге, поскольку мне показалось целесообразным коснуться и этого, я добавил анализ его рассуждения об Афине.
3.8.2. Хрисипп, почувствовав противоречие между своим мнением и мифом о богине, которая, как считается, была рождена из головы Зевса, говорит следующее – цитирую его рассуждение полностью, хотя оно довольно длинное:
3.8.3. «Я слышу, что некоторые люди высказываются в поддержку того взгляда, что ведущая часть находится в голове.
3.8.4. Действительно, говорят они, рождение Афины (которая представляется мыслью или, так сказать, разумностью) из головы Зевса является знамением того, что ведущая часть находится там. Иначе мысль и разумность не возникали бы в голове, если ведущая часть в ней не находится. Их довод не лишен правдоподобия, но, на мой взгляд, они ошибаются и не знают всего, что относится к этому рассказу, – а на этом как раз неплохо остановиться подробнее в связи с нашим теперешним исследованием.
3.8.5. Некоторые так просто говорят, что она родилась из головы Зевса, и не пускаются рассуждать о том, как и почему это произошло. Некоторые же пишут в теогониях, что ее рождение произошло после того, как Зевс сперва сошелся с Метидой, а потом – с Фемидой; другие в других сочинениях описывают это иначе.
3.8.6. Впрочем, Гесиод в своих теогониях весьма пространно рассказывает, что, когда Зевс и Гера поссорились, Гера сама по себе произвела Гефеста, а Зевс, проглотив Метиду, произвел Афину.
3.8.7. Итак, проглатывание Метиды и зарождение Афины внутри Зевса есть в обоих рассказах. Они расходятся только по поводу того, как это произошло, но для нашего рассуждения такие вещи не имеют значения.
3.8.8. Для ответа на возражения важно только то, что в них есть общего. В “Теогонии” говорится так:
3.8.9. “Сделалась первою Зевса супругойМетида-премудрость;Больше всего она знает меж всеми людьми и богами.Но лишь пора ей пришла синеокую деву-АфинуНа свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманилЛьстивою речью Кронид и себе ее в чрево отправил…Дабы ему сообщала она, что зло и что благо”[314].3.8.10. Затем несколько ниже он говорит:



