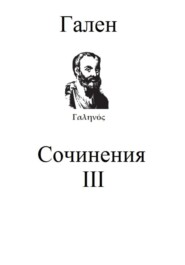 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 3
3.3.6. Ведь при наличии силы и выучки разум будет всецело властвовать над гневом, а всадник – над лошадью; если же нет одной из этих составляющих или их обеих, есть опасность, что более низкое будет управлять более благородным по природе; например, у скифов, галатов и многих других варваров гнев сильнее разума, а у нас такое встречается у детей и невоспитанных людей.
3.3.7. Гомер хочет показать именно это, когда описывает, как Гектор, Ахилл и прочие юнцы рабски служат гневу, а у Одиссея же, Полидаманта и Нестора разум властвует над гневом, причем иногда эта власть столь сильна, что гнев вовсе не может подтолкнуть к безрассудному делу, а иногда начинает подталкивать, но вовремя бывает остановлен разумом, как в этом отрывке про Одиссея.
3.3.8. Приведу весь отрывок полностью:
«Там Одиссей, женихам истребление в мыслях готовя,Глаз не смыкая, лежал. Из зала в то время служанки,Бывшие также и раньше в любовной связи с женихами,Весело вон выбегали, смеясь меж собой и болтая.Дух Одиссеев в груди у него глубоко возмутился.Долго он в духе и в сердце своем колебался, не зная,Броситься ль прямо на них и всех перебить беспощадноИли позволить и эту им ночь провести с женихами —В самый последний уж раз. Внутри его сердце рычало.3.3.9. Как над щенятами стоя бессильными, грозно собакаНа человека чужого рычит и готова кусаться,Так его сердце внутри на их непотребства рычало.В грудь он ударил себя и сердцу промолвил сердито:“Сердце, терпи! Ты другое еще погнуснее стерпелоВ день тот, когда пожирал могучих товарищей нашихНеодолимый циклоп. Ты терпело, пока из пещерыХитрость тебя не спасла, уже к верной готовое смерти”.Так говорил Одиссей, браня в груди свое сердце»[280].3.3.10. Если не признавать, что в этих строках Гомер описывает именно борьбу гнева против разума в рассудительном человеке, победу разума и подчинение ему гнева, то это все равно, что признать, что мы вообще ничему не можем научиться из стихов Поэта[281].
3.3.11. Ведь если даже столь ясно выраженная мысль приводит нас в замешательство, то из прочих стихов мы уж точно не сможем извлечь для себя никакой пользы. Гнев принуждал Одиссея, видевшего преступное поведение служанок, покарать их, но разум удержал его, указав на несвоевременность наказания.
3.3.12. Когда же разуму не удалось легко склонить гнев помедлить с наказанием до более подходящего времени, он наступает на него более энергично, подобно наезднику, который с силой тянет понесшую лошадь крепкой уздечкой в другую сторону, и обращается к сердцу с такими словами: «Терпеливо переноси настоящее, о благороднейшее сердце, как и прежде терпело ты у Киклопа, видя, как он убивает твоих товарищей».
3.3.13. Мне кажется, что Платон в четвертой книге «Государства» привел эти стихи в высшей степени уместно[282], а Хрисипп – в высшей степени неуместно. Это еще в большей степени относится к стихам Еврипида, в которых Медея говорит, когда в ее душе разум спорит с гневом.
3.3.14. Ведь она понимала, что, решившись заколоть своих детей, делает нечестивое и ужасное дело, и потому медлила и откладывала совершение задуманного, а не исполнила свой замысел сразу.
3.3.15. И как бы некая своенравная лошадь, победившая возницу, гнев снова влек ее силой к детям, затем опять разум тянул в другую сторону и увлекал ее за собой, и вновь и вновь побеждал то гнев, то разум.
3.3.16. Многократно ее влекло то к одному, то к другому, то вверх, то вниз, и вот, в момент, когда окончательно победил гнев, Еврипид вкладывает ей в уста такие слова:
«Я знаю, что свершаю дело страшное,Но гнев во мне теперь сильнее разума»[283].3.3.17. Конечно, она сознает ужас преступления, которое собирается совершить, поскольку ей сообщает об этом разум, но она говорит, что гнев сильнее него, и потому она насильно уводится гневом к действию; Одиссей, напротив, сдерживает гнев разумом.
3.3.18. Еврипид представил Медею как пример варварки, человека, чуждого воспитания: у таких людей всегда гнев сильнее разума; а у эллинов и воспитанных людей, образцом которых является Одиссей у Поэта, разум сильнее гнева.
3.3.19. Итак, часто разум настолько сильнее яростной части души, что между ними не происходит никакой борьбы, разум правит, а яростная часть подчиняется, и так бывает у тех, кто достиг высшей цели философии.
3.3.20. Но часто гнев настолько сильнее разума, что правит и верховодит во всем: так бывает у многих варваров и у детей, горячих по природе, а также у многих диких зверей и у людей звероподобного нрава.
3.3.21. А иногда ни то, ни другое не настолько сильно, чтобы сразу перетянуть другое, но они борются и сражаются друг с другом, и одно со временем побеждает другое: в Одиссее – разум, в Медее – гнев. Ведь и то, и другое – части души, или если не части, то по крайней мере некие силы.
3.3.22. Хрисипп же, не признавая, что это есть части души и что, помимо разумной части души, в ней есть и другие, неразумные силы, тем не менее без колебаний приводит стихи, содержащие речи Одиссея и Медеи, хотя они очевидным образом опровергают его взгляды.
3.3.23. Ну и как после этого вести разговор с этими людьми, которые, как я показал уже не раз, не желают замечать очевидных вещей и, кроме того, приводят то, что опровергает их взгляды, как свидетельство в свою пользу?
3.3.24. Рассуждение Хрисиппа о руководящей силе наполнено стихами поэтов, свидетельствующими, что либо страсти пребывают в области грудной клетки и сердца, либо что есть две силы души, отличающиеся друг от друга по своему роду: одна – неразумная, другая – разумная.
3.3.25. Ведь и цитаты Гомера и Гесиода, приведенные Хрисиппом, которые я обсуждал ранее, и то, что он цитирует таким же образом из Орфея, Эмпедокла, Тиртея, Стесихора, Еврипида и многих других поэтов, выглядят у него одинаково нелепо. Вот, например, он цитирует Тиртея:
«С неукротимой душою, как лев, на охоту идущий…»[284]3.3.26. Мы все, люди, прекрасно знаем, что у льва есть яростный дух, и нам не надо для этого слушать стихи Тиртея. Хрисиппу же, который отнимает у львов их дух и их ярость, не стоило бы эти стихи цитировать.
3.3.27. Ведь, как я уже говорил в первой книге, стоики утверждают, что ни одно из бессловесных животных не имеет ни яростного, ни вожделеющего, ни разумного начала: они, вопреки всякой очевидности, отказывают животным во всем этом.
3.3.28. Тиртей же, как и Гомер, Гесиод и вообще все поэты, говорит, что львы имеют высшей степени яростный дух, и потому наиболее горячих людей уподобляют львам; помимо поэтов, и все люди называют обладающих наиболее пылким духом львами.
3.3.29. Так же и зрители каждый день подбадривают этим словом атлетов. Итак, все это совершенно противоположно тому, что хочется видеть Хрисиппу.
3.3.30. Отходя от аргументов, связанных с природой исследуемого вопроса, он всякий раз действует скорее как судебный оратор, чем как философ, то есть рассчитывает победить благодаря множеству свидетелей, но те, кого он вызывает в качестве свидетелей своей стороны, всякий раз предают его и свидетельствуют против него.
3.4.1. Итак, когда он говорит, что иные люди называются лишенными сердца, потому что все люди верят, будто руководящая сила души находится в сердце, то удивления достоин этот человек, если он настолько не понимает этого выражения, что не сознает, что глупых и неразумных никогда не называют лишенными сердца, но, издеваясь, называют их безмозглыми, а лишенными сердца называют робких и трусливых.
3.4.2. Итак, и здесь мнение Хрисиппа опровергается теми самыми свидетелями, которых он призывает, ведь они утверждают, что разумное начало находится в мозге, а яростное – в сердце.
3.4.3. Клянусь, удивительно, как он умудряется истолковать значение, которое большинство вкладывает в выражение «лишенный сердца», еще и приплетая сюда выражение «без нутра» (ἄσπλαγχνος). Вот его рассуждение:
3.4.4. «Наряду с теми выражениями, о которых было сказано, используют еще и другие, например, “те, которые без нутра”, – сообразно чему мы говорим, что у такого-то “нет мозгов” или “есть мозги”. Это подразумевает, что в таком же смысле мы говорим, что у такого-то “нет сердца” или “есть сердце”, – соответственно сказанному выше. Выражение “те, которые без нутра” означает, по всей видимости, что “внутри” ничего не болит; но по большей части подобные выражения применяются к людям в отрицательном смысле в связи с сердцем, а о “мозге” можно говорить в таком же смысле или в силу его схожести с сердцем, или потому, что он имеет такое же значение, как и внутренности».
3.4.5. Таково это рассуждение; необходимо прочитать его трижды или четырежды, затратив на это много времени и со вниманием следя за тем, что говорится. Только так, я думаю, можно вникнуть в его суть и убедиться, что оно ничего не стоит, как говорится в пословице: «Возьми ничего и храни хорошо».
3.4.6. Я, со своей стороны, часто и во многих книгах читал рассуждения, в которых встречаются слова и фразы, не имеющие никакого смысла, но все-таки не настолько, как в приведенном нами рассуждении.
3.4.7. Ведь это рассуждение – загадка, которая поражает своей неясностью, соединенной с неуместной краткостью. При этом Хрисипп не стремился к краткости ни в одном из своих трудов, но, напротив, так многословен, что сыплет словами часто и многообразно, поворачивая их то так, то эдак.
3.4.8. Его обыкновение неясно выражаться вытекает из отсутствия способности к объяснению, и мне кажется, что он не стесняется растягивать свои рассуждения, по три-четыре раза объясняя одно и то же, именно потому, что сам чувствует слабость своих рассуждений.
3.4.9. Краткость же ему незнакома и редко встречается в его сочинениях, и более всего он бывает краток там, где он чувствует неизбежность провала своего рассуждения. Ведь, я думаю, он стремился побыстрее пробежать опасное место, ведь если он остановится, его настигнет опровержение.
3.4.10. Мне кажется, как в других рассуждениях он противится необходимости отчетливо разъяснить свою мысль, так и в тех словах, которые мы опровергаем сейчас, он прячет свое рассуждение за неясностью, проистекающей из краткости, чтобы казалось, что он опроверг обвинение, а не обошел его, и чтобы мы не смогли оспорить сказанное, так как ничего в нем не поняли.
3.4.11. Именно это, как мне кажется, можно видеть в приведенном рассуждении, где рассматривается, как большинство употребляет выражения «лишенный нутра» и «безмозглый». Мне кажется, смысл этого рассуждения можно раскрыть примерно следующим образом: выражение «лишенный нутра» иногда употребляется в том же значении, что «лишенный сердца», так как сердце расположено у человека внутри, а выражение «безмозглый» иногда употребляется в том же значении, что «не имеющий нутра», так как головной мозг является не просто внутренним органом, но органом руководящим.
3.4.12. Однако стоики не принимают такое объяснение, но говорят, что в этом рассуждении Хрисиппа говорится нечто другое, а что – не открывают, вероятно, потому, что это некое тайное учение, и явно порицают нас за то, что мы спешим спорить прежде, чем поняли, что говорится. Некоторые же из них бранятся еще более неистово, называют нас невежественными любителями поспорить и говорят, что отказываются учить невежд и объяснять им смысл слов.
3.4.13. Впрочем, другие вещи они подробно разъясняют, хотя мы не просим, однако когда доходят до чего-то такого, то, как я сказал, понимают, что здесь болтовня не поможет им в споре. Тогда те из них, что пишут книги, как бы пробегают это место быстрыми и неясными формулировками, а истолковывающие их сочинения предпочитают вызвать у слушателя подозрение в том, что от него что-то скрывают из недобрых чувств, делая вид, что не желают учить нас, вместо того, чтобы признать поражение в споре.
3.4.14. Однако оставим «лишенных нутра» и «безмозглых» – не будем слишком расстраивать Хрисиппа и его сторонников, демонстрируя, что вызванные ими свидетели дают показания против них же; вернемся к тому месту рассуждения, в котором мы сделали отступление.
3.4.15. Хрисипп, наполнив всю книгу стихами Гомера, Гесиода, Стесихора, Эмпедокла и Орфея, прибавив к ним еще немало из трагедий Тиртея и других поэтов, догадался, наконец, что проявил достойную удивления бесконечную болтливость – такое название ей подходит более всего, как я полагаю, – и добавил ко всему этому буквально следующее:
3.4.16. «Скажут, пожалуй, что это болтовня старухи или, может быть, учителя грамоты, который хочет перечислить как можно больше стихов, содержащих одну и ту же мысль»[285].
3.4.17. Прекрасно сказано, о Хрисипп, лучше было бы, если бы ты не только сказал это, но и вообще удержался от старушечьей болтовни.
3.4.18. Ведь что может быть больше похоже на старушечью болтовню или разглагольствование школьного учителя, что дальше от научного доказательства, подобающего мужу-философу, чем это: в начале упомянуть учение Платона, а затем оставить его без внимания, отбросить, не разобрав написанное об этом предмете теми, кто жил после него, пройти мимо задававшихся об этом вопросов, споров, противоречий и их разрешений? С помощью всего этого надлежало ему обосновывать свое мнение, используя научные доказательства, а не цитировать поэтов, не призывать в свидетели толпу простолюдинов, не выписывать того, что говорят женщины, – притом, что ему не повезло даже с теми свидетелями, которых он вызвал сам.
3.4.19. Ведь и все поэты, и большинство простолюдинов свидетельствуют против него. И действительно, какой поэт не писал, что многие из животных испытывают вожделение и гневаются сильнее человека?
3.4.20. Разве простолюдины используют эти слова не в соответствии с учением Платона, то есть не пользуются выражением «лишенный сердца» в значении «трусливый, робкий, малодушный»? А «взять сердце» призывают, побуждая ближнего к мужественному деянию, насмехаясь же над говорящими нечто неразумное, называют их «безмозглыми» и «безрассудными», при том что «рассудительными» и «благоразумными» называют тех, кого одобряют за проницательнность; «лишенными нутра» же называют тех, кто никого не жалеет, никого не любит, кому вообще безразличны те, кто их хвалит или порицает, делает им зло или добро, – словом, тех, кто подобен бесчувственным камням.
3.4.21. Итак, «лишенными нутра» называют тех, кого высмеивают за полное бесчувствие, «лишенными сердца» – робких, «безмозглыми» – неразумных.
3.4.22. Поскольку есть некий третий внутренний орган – печень, в котором помещается вожделеющая часть души, то следует, чтобы человек, который намеревается установить совершенный порядок в своей душе, имел и в ней некую соразмерность присущих ей движений. Если же человек является бесчувственным в этой части, что бывает и в отношении двух других, и она у него обустроена плохо, то такой человек по справедливости называется «лишенным нутра».
3.4.23. Противоположный ему тип определяется как имеющий большие внутренности (μεγαλόσπλαγχνος)[286]. Такова Медея в изображении Еврипида: действительно, внутренние силы ее велики, и каждый из трех основных внутренних органов имеет в ней сильные движения. В этой трагедии представлена женщина, обуреваемая вожделением и яростью, но при этом имеющая чрезвычайно острый ум.
3.4.24. Достаточным признаком того, как сильна в ней вожделеющая часть души, является ее чрезмерное движение – любовь к Ясону: побежденная этой любовью, она предала и бросила своих близких, последовала за чужеземцем и совершенно доверила ему себя. Важным признаком того, что в ней чрезмерно сильно яростное начало, является то, что она испытывает ярость даже в отношении своих детей.
3.4.25. А то, что и разумное начало в ней чрезвычайно сильно – ибо и в этом отношении Еврипид изобразил ее женщиной незаурядной, – видно из того, как она спланировала месть для своих врагов и как она многократно обращается к себе, пытаясь сдержать и смягчить свой гнев, чтобы он не толкал на нечестивые дела.
3.4.26. Так что правильно Еврипид говорит о ней:
«Что может, скажи, сотворитьНаделенная силой и страстью душа,Не умеющая успокаиваться,Уязвленная злою обидой?»[287]3.4.27. Итак, она – «имеющая большие внутренности»; а «лишенный нутра» и «маловнутренний» – это тот, у которого все три части души ничтожны, малы, медлительны и неповоротливы.
3.4.28. Среди этих рассуждений не премину сказать то, что пришло мне в голову: древними философами было сказано, что, разговаривая с болтливыми людьми, нельзя не впасть в болтливость.
3.4.29. Итак, и я был вынужден из-за болтовни Хрисиппа заняться обсуждением слов простолюдинов и Еврипида, чего никогда бы не стал делать добровольно, приводя доказательства для такого тезиса.
3.4.30. Ведь не только Еврипид, или Тиртей, или какой-либо другой поэт, или тем более какой-нибудь простолюдин, но даже сам Гиппократ, по общему признанию наилучший из всех врачей, или Платон, первый из всех философов, не заслуживает того, чтобы поверить его свидетельству в пользу того или иного тезиса без всякого доказательства.
3.4.31. Ведь те, кто жил после Платона, могут хоть разорваться от зависти, могут, как последователи Хрисиппа, из жажды соперничества сделаться бесстыдными софистами – они не смогут превзойти учение Платона или подражать его строю доказательств. Однако даже этим мужам[288], настолько превосходящим всех других познанием души, разумный человек не станет просто верить на слово, но будет ожидать доказательств.
3.4.32. Хрисипп же не упомянул и не попытался исследовать ни одного из тех доказательств, которые они приводят в защиту предложенного тезиса, но при этом не устыдился призывать в свидетели Тиртея и Стесихора, которые, если бы кто спросил их при жизни, претендуют ли они на знание этих учений, признались бы, очевидно, что ни об одном из них не слышали, и я думаю, что они скорее сами желали бы узнать у Хрисиппа что-нибудь об этом, чем что-то из этого доказывать.
3.4.33. И тогда Хрисипп, вероятно, повел бы их к простолюдинам, мудрец – к невеждам, благоразумный – к безумным, владеющий искусством последовательного рассуждения – к тем, кто и в словах, и в делах постоянно противоречат и друг другу, и себе самим.
3.4.34. Но хотя простолюдины и неразумны, хотя они и расходятся во мнениях друг с другом и с самими собой, я думаю, они все же имеют здравый смысл настолько, чтобы не призывать в поддержку того, что они говорят, тех, кто будет свидетельствовать против них.
3.4.35. Хрисипп же со всей своей мудростью превзошел простолюдинов в невежестве, поскольку он призывает в свою защиту тех свидетелей, которые дают показания против него. Из-за этого и я теперь вынужден пустословить, чтобы показать, насколько глубоко заблуждается Хрисипп.
3.4.36. Ведь он не вспомнил ни одного из приведенных Платоном и Гиппократом доказательств, не опроверг их, сам не высказал никакого другого доказательства и не понял, каких свидетелей следует призвать.
3.4.37. Итак, мы и в первой книге говорили о противоречиях Хрисиппа самому себе, но теперь совершенно очевидно тупоумие этого человека, ведь он не только не скрывает те факты, которые ему полезно было бы скрыть, то есть те, которые явно опровергают его же мнение, но привлекает их в качестве свидетельств.
3.5.1. Итак, оставим это и рассмотрим по порядку все проблемы, которые он ставит, возвращаясь к началу спора, чтобы ничего не пропустить. Я приведу все его рассуждение целиком, хоть оно и достаточно длинно. Вот оно:
3.5.2. «Поскольку гнев возникает здесь, то разумно предположить, что и остальные влечения находятся здесь же, да и все прочие страсти, помыслы и все тому подобное.
3.5.3. Большинство людей, прельщенное обычным словоупотреблением и придерживающееся вышеупомянутого убеждения, весьма правильно обозначает многие из этих вещей. Прежде всего, если начать с этого, все люди придерживаются такого способа выражения, когда говорят, что ярость “поднимается” в ком-то, и когда считают, что кто-то должен “испить” свой гнев. И опять же, когда мы говорим, что они “проглатывают” или не “проглатывают” свои мучения, мы выражаемся согласно этому естественному убеждению.
3.5.4. Точно таким же образом говорят, что ни одно из этих переживаний не “спустилось” до них и “он проглотил слова и ушел”. А Зенон в ответ на упреки, что все непонятное он “подносит ко рту”, возразил: “Но не все проглатывается”. Но говорить о “проглатывании” речей или о том, что они “спускаются” к нам, было бы совершенно неуместно, если бы наше ведущее начало (к которому обращены все подобные вещи) не находилось в груди.
3.5.5. Если бы оно находилось в голове, было бы смешно и нелепо говорить, что слова “спускаются”. В этом случае, думаю я, уместнее было бы говорить “поднимаются”, а не “спускаются”, – соответственно отмеченному выше естественному убеждению. Ведь только в том случае, если слуховые ощущения передаются “вниз”, в область рассудка, а рассудок находится в груди, уместно будет говорить о “спуске”. Если же ум находится в голове, это будет, скорее, неуместно»[289].
3.5.6. Здесь Хрисипп снова не чувствует, что призывает простолюдинов свидетельствовать против самого себя; ведь, употребляя выражения «поднимается гнев» или «опускается раздражение» и другие подобные выражения, они свидетельствуют, что считают, что гнев и вообще страсти находятся где-то внизу, а мышление – в голове.
3.5.7. Я думаю, что выражение «сказанное до них не спустилось» употребляется большинством не в том значении, что кто-то не понимает сказанного или не воспринимает его умом, но в тех случаях, когда слова должны были бы вызвать ярость, скорбь, гнев или иную подобную страсть, но слушатель не придает значение этим словам и не чувствует в себе движение страстей. И давайте на этом покончим с этой болтовней.
3.5.8. После этого Хрисипп упоминает и нечто другое: «К женщинам все сказанное относится в гораздо большей мере: если сказанное до них “не доходит”, они часто подносят палец к сердцу и говорят, что слова туда не дошли»[290].
3.5.9. Это умозаключение того же рода, что и прежние, и добавляются еще два наимудрейших умозаключения, а именно: что это говорят женщины, а не мужчины, как раньше, и что они, как бы танцуя, выражают этим указанием то, что у мужчин выражает слово. Но и здесь, благороднейший Хрисипп, ты вызываешь женщин свидетелями против самого себя.
3.5.10. Ведь они так говорят и «танцуют руками», как ты выражаешься, не отрицая, что поняли сказанное, но заявляя, что брань, угроза или что-то в этом роде не заставила их гневаться, сердиться или вообще как-либо раздражаться; я думаю, что и сам Хрисипп это понимает.
3.5.11. Итак, он противоречит самому себе, когда далее пишет: «И то самое естественное убеждение, соответственно которому мы говорим, что сказанное (будь то угрозы или брань) не “спустилось” настолько, чтобы дойти до человека, задеть его и привести в смущение, – то же самое убеждение позволяет нам называть некоторых людей “глубокими”, поскольку ни одно из таких воздействий, “спускаясь”, не достигает их»[291].
3.5.12. Итак, сам Хрисипп свидетельствует, что при угрозах и брани говорится, что «сказанное не спускается в грудь».
3.5.13. Тем не менее он вставил в свое рассуждение слово «разумение» там, где следует сказать «гнев»; ведь рассуждать, постигать сказанное, распознавать противоречащее и согласующееся – дело разумной силы; а не раздражаться и не сердиться при брани и угрозах – характерная особенность яростной части души.
3.5.14. Но это Хрисипп говорит в следующем отрывке, а между только что приведенным рассуждением и тем, которое я привел раньше, а именно о женщинах, есть другое рассуждение, которое я приведу теперь для того, чтобы вообще ничто не казалось обойденным молчанием.
3.5.15. Вот оно: «Соответственно этому естественному убеждению мы говорим, что некоторые “извергают” свои переживания, а еще· называем человека “глубоким”, и многие выражения такого рода употребляются соответственно тому естественному убеждению, о котором говорилось выше. Таким образом, когда “проглатывают”, скажем, высказывание “стоит день”, затем доводят его до ума, а потом заявляют, что “день не стоит” (хотя положение вещей не меняется), – в этом случае “извергают” вполне удобное и уместное слово»[292].
3.5.16. Я, со своей стороны, не слышал, чтобы кто-то говорил «извергать», но предпочитают говорить «выплевывать», «сплевывать», «сбрасывать», «отбрасывать» и «устраняться», когда имеют в виду, что кто-то отказался от дурных мнений.
3.5.17. Если же в этом значении употребляют слово «изрыгать», то это то же самое, что «выплевывать» и «отбрасывать», то есть это выражение синонимично другим метафорическим выражениям.
3.5.18. То же, что такими аргументами не стоит пользоваться не только философу, но даже ритору, было показано мной ранее в этом труде. Это и теперь можно показать посредством краткого пересказа риторических произведений, которые пишутся, чтобы научить нас топосам, используемым при аргументации по любой теме.
3.5.19. В этих книгах не упоминается ни один из тех аргументов, которыми Хрисипп наполнил свои сочинения.



