
Полная версия:
Мертвые мальчишки Гровроуза
– Ничего я не зациклился, – резко отвечаю я, оторвавшись от неба, и следом ворчливо добавляю: – Может, немного.
Кошусь на Ромео. Тот поворачивает ко мне голову, приоткрыв один глаз, и усмехается:
– Начнешь считать звезды и зациклишься – зови. Мы же друзья.
Какой же приставучий мальчишка! Я заметил: если ты одинок, то склонен называть «дружбой» то, что обычно зовут «приятельством». Ромео – самая яркая звезда из нас всех. Но иногда мне кажется, будто он притворяется, а внутри – стремительно мчится к сверхновой.
– Мы не друзья, – бурчу я, всматриваясь в редкие огни Гровроуза по ту сторону рощи.
Ромео с шумом втягивает воздух. Затем не спеша – точно оттягивая момент – встает, отряхивает джинсы и легонько пинает меня мыском кед:
– Дурак ты, Грейнджер.
Ромео
Обида съедает мое нутро, поскольку я выбираю проглотить ее не пережевывая. Грейнджер неисправим. Да и стоит ли его чинить? Любого из нас… Все мы здесь сломаны. Сданы в утиль. И кто знает – возможно, на выходе через переработку из наших душ что-нибудь путное да выйдет. За свою, правда, уже не ручаюсь.
Восковая улыбка сходит с моего лица, и я спрыгиваю с лестницы на песок, чувствуя, как сводит скулы. Без гитары за спиной под кожей ощущается зуд. А с ней я чувствую себя так, словно ангел похлопывает меня по плечу в самый паршивый день, поддерживает и оберегает.
«Почему ты не улыбаешься? – спросила приемная мать, когда мы стояли в центре моей новой комнаты. – Такой красивый мальчик – и хмурый». Я сжимал в кулачке медиатор и не мог поверить, что наконец-то обрел дом. Настоящий. Не из фантазий перед сном, а тот, где можно побродить, который можно потрогать и рассмотреть.
Теперь у меня есть родители, и мечты обязательно сбудутся, но уже тогда в женщине, формально названной «мамой», сквозил холод. Я не мог его осознать, ведь он был чем-то глубоким и непостижимым. Но я его чувствовал.
В том, как она не дала попрощаться с детьми, которые стали мне роднее взрослых. «Они чумазые, а твоя новая рубашка из шелка, милый. Приедем к ним в другой раз. Не хочется попасть в пробки». И эти ее слова стали первым обманом. Ведь в приют мы так и не вернулись.
В том, как в машине я уронил долгожданное пирожное. Мать больно меня одернула и отчитала за недостойное для юного джентльмена поведение. На заправке водитель спрятал в моей ладошке конфету, и обида на мать постепенно затихла, а вера во взрослых – возросла.
В том укоризненном замечании, стоило мне побежать в саду за бабочкой и наступить на идеально подстриженный газон, об идеальности которого я даже не догадывался.
«Ну же, улыбнись», – повторила она настойчивее, пока мы застыли посередине комнаты, точно часть щепетильно подобранного интерьера. А мне не хотелось выбиваться из обстановки, поэтому я вспомнил страшные рассказы о возвращенных в приют проблемных детей и последовал последним наставлениям воспитательницы о послушании.
«А вдруг мне и гитару подарят?» – подумал семилетний я и улыбнулся.
Увидев, как растянулись мои губы, приемная мать с одобрением во взгляде погладила меня по голове и улыбнулась в ответ. Так и закрепилось: если хочешь получать от этой гребаной жизни хоть что-то хорошее – притворяйся и будь прилежным. Никому, кроме тебя, твое унылое дерьмо не нужно.
На кухне мотеля горит свет, и в окне мельтешат силуэты мальчишек. Я отряхиваю подошвы и захожу внутрь. В моей семье никто готовить не умел. Ходили в наши рестораны. В городе их три: два принадлежат отцу, а еще один находится в казино. Дома еду готовила эмигрантка, работавшая у нас на полную ставку и там, где подвернется. Орава детей часто встречала ее после смены, громко крича «мамочка», а я подглядывал из окна, порываясь пойти следом.
Жители из соседних районов, которые пользовались ее услугами в сытные месяцы, называли женщину «прислугой». И слетало это с их губ уничижительно и с пренебрежением. Для статусности. А на деле ни особняка, ни богатств у них, как в моей семье, не водилось. Так… пластмассовые богачи по меркам Гровроуза, которые любили скорее «казаться», чем «кем-то быть». Я же всегда обращался к ней с уважением. И готовила она и впрямь потрясающе.
Мне часто хотелось испытать те ощущения, когда ты переступаешь порог родительского дома – и тебя обволакивает аромат выпечки или жаркого. Это было у Кензи. Я с завистью смотрел на семейную идиллию друга, приходя к нему в гости по выходным. Тогда ничего о болезни его отца я не знал. Никто не знал. Пока все не стало… безвозвратным.
В нос бьет вонь моющего средства, вытаскивая из воспоминаний за шиворот, и к ней примешивается запах подгоревшей на сковородке яичницы, еще горячих тостов и постоянного «посетителя» нашей берлоги – бензинового амбре. Хотя резервуары с топливом под землей давно опустели и для электрогенератора мы вынужденно таскаем канистры с другого конца города, отголоски былой жизни здесь повсюду. В глубоких – пусть и заметенных временем – следах от шин бензовозов на подъезде. В испачканных мазутом перчатках, завалившихся за спинку дивана. В масляных следах на дверных ручках в комнатах мотеля, где останавливались дальнобойщики. И, кажется, в нашу кожу, волосы и одежду, как и в стены, запахи заправки впитались навсегда.
– Где Грейнджер? – Базз вытряхивает остатки чипсов себе в рот, и крошки падают на пол. Я беру веник и аккуратно сметаю их в совок.
– Да дрочит на крыше, – подтрунивает Кензи с леденцом во рту. – Интересно, кто кого: экзистенциальный кризис против Грейнджера. Ваши ставки, господа.
– Эк-зис-те… – Базз пытается выговорить слово, но выходит со скрипом.
Кензи хмыкает и указывает себе на грудь:
– Это как экзоскелет, но внутри.
Базз делает глоток лимонада и смачно рыгает:
– А-а-а! Вот почему Грейнджер такой зануда! Хрупкий? Ему бы подкачаться.
– Придурки, – говорю я, отталкиваю Базза от мусорного ведра и выбрасываю туда крошки. – Это о ментальной броне.
– И откуда столько слов понабрали… – зевает Базз.
Кензи вылезает из-за стола и подхватывает свой блокнот:
– Пойду проверю новенького.
Я отряхиваю руки над раковиной и поправляю тарелки в сушилке. Опять они расставлены не по цветам. Грейнджера удар хватит. «Порядок в доме – порядок в голове», – передразниваю я гнусавый голос. Если с первым помочь можно, то со вторым… Самому бы разобраться.
– Бушь? – Базз протягивает мне шоколадный батончик, жуя и чавкая. – А то последний.
– Не, сам ешь. Спасибо.
На кухню заходит Уиджи. Видок у него весь такой: «Я занят, олухи, чем бы занять и вас». Он ставит у холодильника набитый рюкзак и залпом опустошает стакан питьевой воды, запас которой тоже предстоит пополнить завтра ночью.
Наш лидер и Грейнджер всегда готовятся к вылазкам заранее, чего не скажешь об остальных. Мы предпочитаем тянуть до последнего, чтобы в минуту опасности обосраться со страху и проявить смекалку. По крайней мере, я себя именно так и оправдываю.
Уиджи скрещивает на груди руки, и из его кармана выпадают белые провода от наушников.
– Не хотелось бы лицезреть, как один из вас за еду бегает по роще голышом.
– Не бегал я за еду, – возмущается Базз и высокопарно, несвойственно для него складывает пальцы в щепотку на итальянский манер. – Я бегал за идею.
Уиджи хмыкает:
– Это ты слова Грейнджера повторил, когда он тебя уговаривал светить задницей?
– Ну, допустим.
Пару месяцев назад Грейнджер предложил нам попробовать преодолеть линию билборда без одежды. Снизить, так сказать, сопротивление. Мы посмеялись и, конечно, не согласились. Даже за пару батончиков, которые этот умник ныкает от нас по углам, потому что сам от сахара шарахается, точно вампир от чеснока. Видать, по старой памяти.
Каждый раз, если ему нужно наше участие в его безумных экспериментах, шоколад становится валютой. Как видите, без капитализма ни-ку-да.
– Признайся уже, нудист хренов, – ржу я над Баззом. – Ты бы и без батончиков согласился.
Базз лыбится:
– Ты за кого меня принимаешь? Я и бесплатно задницей сверкать? Да ни в жизнь! Но тебе могу показать и забесплатно.
Он приспускает спортивные штаны, будто на фоне заиграла дешевая музыка из стриптиз-бара. Я хватаю кухонное полотенце и смачно луплю его им под зад. Потом стягиваю его штаны до щиколоток, чтобы Базз не смог меня догнать, и даю деру в коридор.
– Ах ты, мелкий выхухоль! – орет он мне вслед.
Я несусь прочь, хохоча во все горло, а Базз спотыкается, натягивая штаны. Справившись с задачей, он бежит за мной, но я успеваю захлопнуть дверь своей комнаты прямо перед его кривым носом. Затем отклеиваю выцветший постер с фильмом «Пятый элемент» и посылаю воздушный поцелуй в дыру:
– В другой раз, чумба[8]!
Это отверстие Базз оставил кулаком в первые месяцы нашей притирки, и таких отпечатков его гнева по мотелю немерено. Я возвращаю плакат на место и щелкаю кнопкой настенного светильника, который – естественно! – пару раз с треском мигает и только потом тускло загорается под потолком моей конуры.
У меня есть время перед вылазкой, и я планирую отдаться сну. Кровать не заправлена со вчера. Надеюсь, она хотя бы не воняет, как моя одежда в мешке для мусора рядом. Еще немного – и придется клеить у входа виниловую наклейку «Зона биологической опасности». Эту идею подал Кензи, когда зашел в комнату Базза и чуть не задохнулся.
Базз бегает каждое утро. Каждое, ей-богу. Знаю, он делал это и до болезни, пока брат не уехал в горячую точку и… не вернулся. И хоть этот дурень не признается, я уверен: именно наворачивая круги вокруг кладбища, он чувствует себя по-настоящему счастливым. В солнечные дни мне даже кажется, что вместо одной фигуры я вижу две, будто братья бегут плечом к плечу. Но потом протираю глаза – и иллюзия рассеивается.
А с грязным бельем у нас сложности. Приходится раз в неделю таскать барахло в прачечную, а это недалеко от центра города, где постоянно ошиваются фантомы. В такие моменты я проклинаю нежизнь особенно рьяно. Тем более в паре с Кензи, который то мою белую рубашку постирает с черной одеждой, то устроит пенную вечеринку, не рассчитав количество моющего средства.
«Почему никто не выдумал нам стиралку?» – хоть раз размышлял любой из мальчишек. Но потом мы вспоминаем, как поколение до нас притащило из супермаркета целый генератор. Они обеспечили мотель и заправку перебойным светом, и я благодарен им за это. Но не от всего сердца, поскольку таскать канистры – то еще удовольствие.
Спасибо, хоть вода есть. Ржавая, но мы не жалуемся. Не знаю, сколько сменится поколений, прежде чем мальчишки с кладбища лишатся и этого. Поэтому мы своего рода счастливчики.
Стянув через голову толстовку, я подхожу к заляпанному зеркалу в углу конуры и смотрю на свое отражение, напрягая и расслабляя пресс. Свет от лампы подсвечивает витающие в воздухе пылинки и все те недостатки, которые я в себе так ненавижу.
Бока заплыли, хотя стараюсь держать вес. Бицепсы подсдулись вопреки новой белковой диете. А грудные мышцы? Я похож на игрушечного кена, лежащего в корзине «Все за доллар» на гаражной распродаже в самом захолустном районе города.
Бросаю штаны на зеркало – лишь бы это разочарование не видеть – и плюхаюсь на матрас. Под моим весом он с протестом поскрипывает. На комоде лежит батончик, оставленный, видимо, Уиджи. Постоянно пытается меня откормить, аж бесит.
Ничего он не понимает. Никто не понимает.
Рот наполняется слюной при мысли о шоколаде, и я сглатываю.
«Дорогой, пришли результаты твоего взвешивания, – сказала мать, обеспокоенно вглядываясь в экран смартфона, когда мне было четырнадцать. – Ты поднабрал. Давай я и тебе закажу тех овощных смузи?» А я кивал и улыбался, словно болванчик на присоске на передней панели пикапа.
Не подумайте, будто я кукла без своего мнения. Моя мать была помешана на фигуре и внешности. Мне же ничего не оставалось, и я подстраивался, ведь некрасивого сына она принять не могла. Так оно на подкорке и отложилось: любовь нужно заслужить.
Спасибо отцу. Он относился ко мне как к пустому месту – собачке, подаренной своей жене, которой к сорока годам внезапно наскучила роскошная жизнь. И чем бы я ни пытался заслужить отцовское внимание – без толку. Зато стоило стать разочарованием – и даже холодный папаша меня замечал. Прикладывал, что называется, руку к воспитанию.
И свой жестокий нрав он обосновывал взращиванием во мне мужчины, а мама ласково называла его методы «требовательными». С детства отец вбивал в меня мысль: «До тех пор, пока ты живешь в моем доме, будешь подчиняться моим правилам». Поэтому каждый раз, приходя в гости к Кензи, я чувствовал дурноту. Его мама лучезарно улыбалась и говорила: «Будь как дома, милый». А это последнее, чего мне хотелось.
В животе урчит, и я переворачиваюсь на бок. Через стенку доносятся приглушенные всхлипы Кеплера. Бедолага. Таким тут бывает тяжелее всего. Хрупким. Ему бы поскорее смириться с реальностью – и сразу станет легче. Всем нам. Проблемных мальчишек никто не любит.
«Не расстраивай маму, а то ведь знаешь, что будет, – вырываются из воспоминаний отцовские слова перед тем, как я проваливаюсь в сон. – Непослушных щенков выбрасывают на помойку».
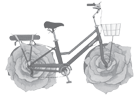
Глава 3. Дисквалифицированный человек
Базз
Всю ночь не могу уснуть, ворочаюсь. Новобранец то и дело хнычет в конце коридора, а я еле сдерживаюсь, чтобы не настучать ему по башке. К утру – на радость всем – силы его иссякают, и сон, видимо, берет свое. Из-за прошлой вылазки весь мой режим опять насмарку, а период перестройки я ненавижу. Днем на нас, мертвых мальчишек, накатывает сонливость, и способности слабеют, поэтому мы так любим ночь.
Из-за горизонта выползает солнце, и розы лениво, точно с недоверием, раскрывают перед ним свои бутоны. Лепесток за лепестком. На красоту я редко обращаю внимание. В нежизни и до нее вернее всего подмечать плохое. Вот вы решите, будто я пессимист, и будете правы. Лучше быть заранее готовым, что на дороге насрал барсук, чем наступить в его говно с улыбкой, натянутой до ушей.
Верить в лучшее – это про мечтателей типа Кензи. Наивных птенчиков, витающих в облаках. Обычно они не замечают ни орла, следящего за ними свысока, ни охотника, целящегося из ружья с земли. Я же предпочитаю сразу настраиваться на самое ужасное, потому что, если оно не произошло, ты ощущаешь себя так, словно выиграл в лотерею. А надеяться и проиграть – вдвойне обидно.
Таким я был не всегда. Пока брат не уехал, в нашем доме царила идиллия, как из дурацкого каталога со счастливыми семьями, который мама получала каждый месяц по почте. Семья у меня обычная. Не идеальная, зато родители всегда поддержат и выслушают. Все поменялось с его уходом, а потом… покатилось под откос, собираясь в огромный снежный ком. И этот ком – так себе представляю – наше гнездышко и разрушил. Образно выражаясь, конечно.
Даже сравнения у меня не шибко радужные, заметили?
Но вернемся к череде дерьма, преследующего меня в жизни.
Потом я заболел. Долбаная лейкемия. Нежданно-негаданно подвела к плахе в самом расцвете лет. А начиналось все безобидно. Сперва появилась усталость. За ней пришли кровотечения из носа – и люди на улице стали внезапно на меня оборачиваться. К этому прибавились инфекции, которые я был вынужден глушить антибиотиками. А бегать уже не мог, поэтому спорт пришлось бросить.
Трансплантация костного мозга мне нужна была позарез. Брат, узнав о моем несущемся в задницу здоровье, тут же взял увольнительную. Мне повезло: мы оказались совместимы для донорства. Он героически появился на пороге моей палаты. Мелькнул вспышкой фотоаппарата и пропал. Оставил от себя пару снимков, теплые слова поддержки и зияющую пустоту в груди.
После возвращения брата в горячую точку я о нем слышал мало. Паршивое чувство, но в тот приезд во мне зародилась надежда: и на выздоровление, и на воссоединение семьи разом. Представлял, как мама будет снова заказывать те дурацкие каталоги и ругаться с соседом, когда его пес предпримет очередную попытку оставить от посылки клочья. Что папа будет бегать за порванными страницами по всей улице и потом радостно трясти ими перед мамой: «Посмотри, целехонько. Сейчас в гараж схожу и склею. Будет как новенький».
Я думал, раз брат победил смерть однажды, то сможет проделать это вновь. Надеялся до последнего. Знать бы еще, где оно, это «последнее», – возможно, мне легче и стало бы… А так я сам себя чувствовал разорванным каталогом.
Радость от появления возможного донора быстро охладила суровая реальность. Оказалось, чтобы что-то пересадить, нужно освободить – грубо говоря – место под это «что-то», то есть разрушить имеющиеся стволовые клетки. И понеслась изнуряющая химиотерапия…
Слышали про фильм «Парень из пузыря»? Вот это я. Стерильные условия, как в операционной, и до тошноты белые стены. Изоляция двадцать четыре часа в сутки: ни войти, ни выйти. Врачи снуют туда-сюда, постоянные анализы, таблетки и контроль, контроль, контроль. Полное ощущение, будто ты отдан на растерзание системе и себе больше не принадлежишь.
Не подумайте, я врачам благодарен. Они-то сделали все возможное, а вот мне…
Мне чего-то да не хватило.
Я останавливаюсь у ворот кладбища и вытираю с лица пот, пытаясь отдышаться. Икры ноют, легкие горят, а все скачущие, как мяч, мысли исчезают за пределами воображаемого поля, оставляя за собой только рев толпы на арене.
Дурацкое кладбище часто со мной играет. Подкидывает образы, которые уже не станут реальностью. Или это я сам смириться не могу? Не-не-не, проще обвинять нежизнь, чем себя. На этом и сойдемся.
В позиции квотербека я отыграл пару сезонов. Тренер говорил, я молодец, подаю надежды. В росте и силе мне уже тогда не было равных, хотя у некоторых с моим переходным возрастом смириться не получалось. В школьном коридоре моя пергидрольная макушка-еж сверкала издалека, раздражая особо консервативных преподавателей. После тренировки, когда мы с пацанами из команды проходили мимо церковного прихода, взрослые косо на нас смотрели и раздосадовано качали головой.
Слишком шумные.
Слишком молодые.
Слишком… живые.
Город у нас своеобразный. Законсервированный настолько, что напоминает сухпаек с давно истекшим сроком годности. Всем тут и найдется место, и не место вовсе. Такой интересный парадокс. Раньше мне казалось: вот оно, счастье, – найти своих среди чужих и плевать, как про вас подумают. С тех пор многое изменилось. Изменился и я.
Солнце бьет в глаза, поднимаясь все выше над горизонтом, и тень от билборда следует за ним по пятам. Сделав растяжку, я направляюсь вглубь кладбища, маневрируя между надгробиями. Дуб по имени Генри встречает меня шорохом листвы на ветру. Этому дереву лет столько же, сколько и Гровроузу. В детстве я любил представлять его корни, тянущиеся отсюда до каждого дома, будто удерживающие наш город от разрушения. А однажды…
Однажды все жители устроили забастовку, когда администрация захотела его срубить. Видите ли, для похорон бывшего мэра в самом центре кладбища. Уму непостижимо, до чего люди способны опуститься, чтобы показать свою значимость. Я привык размышлять так: если тебе этому миру, помимо денег, дать нечего – задумайся, ты сам хоть чего-то стоишь?
К счастью, побороть сопротивление горожан у администрации не вышло. И тогда, поджав хвосты, все семейство уехало отсюда с позором, а могила их деда стоит тут по сей день. Никому, кроме смотрителя, не нужная. А сейчас и его нет.
Помню самые яркие дни лета. В ту двухнедельную забастовку взрослые разбили неподалеку от кладбища лагерь: с палатками, костром, барбекю. Не протест, а хиппи-фестиваль какой-то. Жара удушающая, комары и мошки норовят залезть в штаны, а музыка из колонок затихает глубоко за полночь.
Мне шесть. Брат еще не уехал по контракту в армию. О лейкемии никто и помыслить не мог. И я – счастливый до одури – ношусь вдоль ограды с другими ребятами, словно нас привели не на социальный протест, а в парк аттракционов. Генри – в чем я глубоко убежден – наше внимание нравилось. То гирляндой его обвесим, аж с конца поля видать, то взберемся по толстому стволу и сядем на ветку, кидая во взрослых бумажные самолетики.
Мертвецы под землей нас тогда не смущали. И сейчас, положив ладонь на прогретый солнцем ствол, я ощущаю себя рядом с Генри как дома. А где-то в его коре прячется застрявшая пуля, которую каждый из мальчишек хоть раз да пытался отыскать, изрядно раздражая этим Уиджи, мистера Не-люблю-бездельников. Один Ромео в этом соревновании предпочитает не участвовать.
– Мйау, – доносится из-за могилы, которая принадлежит основателю города – мистеру Гроуву[9]. И появилась она на кладбище одна из первых. Надгробный камень местами пошел трещинами, а между ними порос густой мох. Как-то раз Грейнджер рассказывал о бактериях с заумным названием, которые ученые обнаружили на Китайской стене. Выяснилось, именно благодаря тем крохотным созданиям ей и удалось выстоять. Так, мне кажется, память и устроена. Мы не можем ее увидеть, но она скрепляет живых и мертвых, как те бактерии удерживают от разрушения камень. И для каждого из мальчишек этот мох всегда свой.
Я выглядываю из-за дуба с опаской. Если эти придурки прознают про мою аллергию на котов, они ведь сразу притащат мохнатую задницу в мотель. Натрут ее мехом все мои простыни, чтоб я не храпел ночью, а наверняка откинулся от отека. С ними надо быть начеку и свои слабые стороны держать при себе, а чужие – выискивать. Только так среди проблемных мальчишек выжить и можно.
– Эй, – подхожу я к пурпурному шерстяному мешку, сидящему на надгробии. – Ты тут откуда? Раньше тебя не видел. Потерялся?
Он мурлычет.
– Понимаю. Все мы тут потерянные, приятель.
Кот поднимает хвост и с любопытством изучает пролетающую мимо бабочку. Я тянусь к нему вопреки здравому смыслу, но кот тут же ощетинивается, делает сальто в воздухе и, распушившись, скачет от меня боком.
– Вот и познакомились.
– Его зовут Блэксэд[10].
Писклявый голос Бога звучит прямо над моей головой, и я хватаюсь за сердце.
– Погодите, – я поднимаю руки к небу, – мне рано уходить!
– Так останься.
– А, это ты, – я угрожающе замахиваюсь кулаком на новобранца, который смотрит на меня с ветки дуба. – Чуть до инфаркта не довел!
– Прости, я уснул, – зевает Кеплер. – Блэксэду не нравятся люди. В этом мы с ним схожи.
– И давно ты тут?
– Пару часов или больше. Не спалось.
– Твой кот?
Кеплер слезает с дерева и отступает подальше.
«Да сдался ты мне, паршивец!» – думаю я, но чтобы лишний раз не нервировать мальчишку, сажусь на надгробие в паре ярдах от него.
Под моей задницей захоронена миссис Ле-ван-дов-ска-я, польская эмигрантка. Ни разу ее имя без запинки выговорить не получалось, поэтому все звали ее мисс Лаванда. Она не обижалась. Летом каждое воскресенье пожилой мужчина приносит ей букет полевых цветов – строго по часам и не изменяя себе. Ведет светские беседы, поглаживает могильный камень и с теплотой улыбается выгравированным на нем буквам.
– Кот мой, но… Умер он год назад.
– Понятно. – Я чешу затылок с пробившейся после недавней стрижки щетиной. – Тут такое дело… Это место умеет всякое. Сильные воспоминания способны возникать без нашего желания. Чаще они безвредные, не переживай. Как любимая рыбка или твой кот, а порой… – Я невольно цепляюсь взглядом за пикап Ромео, скрывающийся за рощей. – Порой мы тянем в нежизнь то, что отчаянно хотели бы забыть.
Кеплер облокачивается на ствол дуба и вглядывается в постепенно просыпающийся город. Если постараться, то отсюда можно рассмотреть точно игрушечные машины, в которых местные направляются кто куда: везут детей в школу, засыпая на ходу; едут на работу в казино, надеясь проскочить пробку на шоссе, или хотят успеть в супермаркет, пока не разобрали по акции вчерашнюю выпечку.
Где-то там стоит – как ни в чем не бывало – родной дом Кеплера. И возможно, в нем уже горит свет. А те, кому он дорог, скорбят настолько сильно, что голод съедает его изнутри. Всем нам это чувство по-своему знакомо – разрывающая нутро, словно прожженная дыра, жажда крови.
Хуже только застрять в черте Гровроуза до рассвета.
Никому такой участи не пожелаю. Даже пронырливому Уиджи, который сможет пролезть в любую щель в голове и выворачивает мысли, будто ты дамская сумка с ключами, а не человек вовсе.
Я на него обиды не держу. Он не виноват, что такая поганая способность ему досталась в нежизни. С этим тут согласны все, включая самого Уиджи. Не зря он от нас отселился в трейлер, где раньше жил смотритель кладбища. Лишь бы не подслушивать грязные сны Ромео о девчонках и бесконечный поток букв и символов в башке Грейнджера.

