
Полная версия:
Мертвые мальчишки Гровроуза
– Это звуковое явление в атмосфере с электрическими разрядами – молниями.
Птенчик приоткрывает рот и тут же закрывает, дрожа от холода. Лицо серое, словно пасмурный день, а губы отливают синевой.
– Думаю, он понял. – Ромео пытается приобнять Грейнджера, но тот ловко уклоняется. – Ах да, прости, недотрога. Привычка.
Ромео – самый тактильный человек из всех, кого я когда-либо знал. Если бы объятия могли убивать, он стал бы невероятно успешным киллером.
– Знакомься, это наш малыш Кензи, – я толкаю того локтем, чтобы развеять напряжение, и он отбрыкивается, пиная меня в бок коленкой.
– Не малыш я! – верещит Кензи, точно несносный ребенок, и я над ним по-доброму смеюсь.
– Ладно-ладно, – уворачиваюсь я от ударов его длинных конечностей. – Сэр Маккензи Берд.
– Уже лучше.
Он приподнимает воображаемую шляпу и низко кланяется.
Я продолжаю знакомство:
– Мама у него кореянка. Папа – ирландец. Лицо айдола, но голос как у бывшей Базза, то есть… кхм. – Я смахиваю фальшивую слезу со своей щеки. – Его нет.
Базз, сидя на закрытом гробу, растягивает губы в улыбку пальцами:
– Ха-ха-ха.
– Подтверждаю, – трагично брынькает на гитаре Ромео. – Когда сэр Маккензи поет в душе, в округе подыхают птицы.
Кензи важно упирает руки в бока:
– А я думал, что они дохнут после того, как ты весь день не вылезаешь из сортира. Краденые суши вкуснее?
Ромео замахивается на него кулаком:
– Цыц, узай! Я приобщался к предкам Уиджи!
Кензи отпрыгивает и показывает ему язык.
Я ухмыляюсь, вспоминая мою пропажу из холодильника:
– Ну-ну.
«У-зай», – повторяю я про себя, наверняка с ужасным акцентом. Недавно мы услышали это слово в японском фильме, и мальчишки стали его повторять, словно их заклинило. Но никто из нас точного значения не знал. Кажется, это что-то про боль в заднице или раздражение. Не свали мой папаша в детстве, у меня, возможно, и был бы шанс выучить язык. А так… о родине отца мне известно обрывками – через призму интернета. А там перспектива искажена, как в неумелом рисунке начинающего художника.
– А это Ромео, – киваю я в его сторону. – Местный сердцеед. Держи свои вещи подальше – особенно еду – или подписывай, хотя это не особо помогает. Захочешь отомстить – подсунь ему под койку розы. Не умрет, зато обчихается знатно. У него аллергия на цветы.
– Не на цветы, а на пыльцу, – гундит себе под нос Грейнджер. – Поллиноз.
– То-о-чно, – иронизирую я, упираясь о высокое надгробие локтем. – Это наша ходячая энциклопедия по имени Грейнджер. У мальчишки расстройство аутистического спектра, поэтому советую погуглить, что это, прежде чем обижаться, когда он в очередной раз тебя интеллектуально унизит или проигнорирует.
Из ямы доносится храп, и я потираю затылок:
– А там Базз. Он безобиден, если не злить.
Птенчик пятится от ямы, и Ромео издает протяжное «О-о-о», а затем снова поет под гитару:
Однажды проснувшись в ночи,Я брюки свои обмочил.– Завали, – ворчит из ямы Базз, и все, кроме птенчика, смеются.
Птенчик переминается с ноги на ногу и тихо, почти неслышно, спрашивает:
– Я… умер?
Все резко затыкаются. И даже рука Ромео замирает над струнами, а потом и вовсе безвольно опускается.
– Да, – честно подтверждаю я, поскольку врать о таком, как показала практика, не имеет смысла. – И сейчас ты чувствуешь голод, с которым мы разберемся позднее. А для начала проведем тебе экскурсию.
Посиневшие губы птенчика поджимаются, и Кензи приобнимает его за плечи – не навязчиво, а слегка касаясь, и широко ему улыбается:
– Все образуется.
Мы покидаем кладбище через кованые ворота, и я рассказываю птенчику всякое: про наш мотель со «Стеной посланий», где красуется множество записей и артефактов от ушедших мальчишек; про крышу с неоновой вывеской, под которой мы часто зависаем с гитарой, разглядывая через рощу огни города; про заброшенную заправку без капли бензина и про будущее, которое ждет впереди.
Я оборачиваюсь на металлическую ограду, будто могу разглядеть больше, чем кажется на первый взгляд. Базз остается в яме. Он ненавидит новеньких из-за их частых истерик после пробуждения. В отделении хосписа, где Базз провел последние месяцы жизни, было много слез. Не только детских. Родительских тоже. Когда он выбирался на крышу, чтобы скрыться от медсестер, видел, как матери и отцы рыдали на парковке больницы, громко завывая или тихо всхлипывая – всегда по-разному.
Так он мне рассказывал, но я думаю, поднимался он совсем не поэтому… Неспроста этот громила боится высоты. Базз всегда говорит: «Меня убила лейкемия». Но почему-то никогда: «Я умер от лейкемии».
Мы идем вдоль рощи к мотелю, и гром гремит уже ближе. Когда птенчик видит наше сокровище, то застывает с открытым ртом:
– Откуда здесь розы?
– Сами не знаем. – Кензи кивает на рощу: – Она была тут до нас всех. Возможно, с нее нежизнь началась, ведь ей обычно все и заканчивается.
Я кашляю в кулак, давая Кензи понять, что не стоит вываливать все разом.
– Или за ней новое начало, – нагоняет нас Ромео, закинув гитару за спину. – Загадка, которую вряд ли кто-то из нас разгадает.
– Любую загадку можно разгадать, – парирует Грейнджер, идущий чуть поодаль от остальных. – Но научные эксперименты пока не дали должного результата.
– Научные? – оживляется птенчик.
Я вклиниваюсь:
– Не нуди, Грейнджер, дай мальчишке освоиться.
– А мне интересно, правда. Я давно увлекаюсь астрономией. Даже писал доклад о законе движения планет в Солнечной системе.
– Законе Кеплера, – протирает запотевшие очки Грейнджер. – Он первооткрыватель.
Ромео легонько бьет птенчика в плечо:
– Тогда будем тебя звать так.
– Кеплером? – впервые улыбается он.
– У нас тут не принято обращаться по старым именам, – поясняю я. – Мы выдумываем прозвища. Не сразу. Имя нужно заслужить. Даже если дурацкое, оно всегда с уважением. Никто не должен обижать никого. Это, правда, не правило, а, скорее, рекомендация, поэтому у нас тут постоянно новые сезоны мыльной оперы. Тебе повезло, что имя придумали быстро.
Кеплер косится на Кензи:
– А сэр Маккензи Берд?
Кензи деловито улыбается, прижимая к груди свой потертый блокнот с кучей наклеек, закладок и путаных мыслей внутри:
– А я тут рассказчик.
– Писатель недоделанный. – Я хватаю его за шею и взъерошиваю волосы, а он, естественно, верещит. – Вот ты кто.
– Как мы его только ни звали, но этот мальчишка… – хмыкает Ромео, – в упор не хотел откликаться ни на что, кроме своего настоящего имени.
Порыв ветра подхватывает облетевшие лепестки роз – и те кружат над нами, словно в танце. Кензи вырывается из моего захвата и злобно – на самом деле по-ребячески мило – зыркает на меня:
– Мне важно запомниться Маккензи Бердом. Не хочу скрываться за псевдонимом.
Я закатываю глаза, но молчу. На одном из надгробий сидит моя паучиха Люси. Она перебирает крохотными лапками, наблюдая за пролетающими мимо неоновыми сверчками. Я подхватываю ее, кладу в спичечный коробок и убираю в карман штанов.
У каждого мальчишки есть одна такая вещь, которую он приносит из прошлой жизни, и она всегда пурпурная. Люси – одна из них. Так за поворотом на обочине дороги покрывается ржавчиной фиолетовый – от кузова до шин – пикап. Его достал Ромео, и этим изрядно разозлил Кензи. В личное без надобности я не лезу. Их дела, пусть и разбираются.
Кеплер останавливается и указывает вдаль:
– А там что?
– Билборд, – встаю я с ним рядом – он оказывается на голову ниже. – То ли проклятие наше, то ли надежда.
– Надежда, – подбадривает его Кензи.
– Для меня этим были звезды. – Кеплер отрывает мечтательный взгляд от билборда, смотрит в искрящееся от молний небо и хмурится, точно туча: – У вас же они… есть?
– Ага, – взбирается на перевернутый пикап Ромео, и Кензи сводит брови. – Здесь часто бывают звездопады. Ты столько ярких светил нигде не встретишь. Увидишь – умрешь.
Я вдавливаю камушек в прибитую первыми каплями дождя дорогу и прикусываю от волнения щеку. Кеплер оглядывается на кладбище, затем вновь поворачивается к роще и смотрит на линию горизонта, будто ищет за ней ответы.
– Значит, это правда… Я мертв.
Никто не произносит ни слова.
Ветер тревожит готовые встретить рассвет бутоны. Склоняет их к земле, и их движение напоминает мне бушующие волны океана во время шторма. Сорванные лепестки поднимаются в воздух и, когда природа усмиряет свое дыхание, планируют вниз. Раскатистый гром сотрясает землю. По моей спине бегут мурашки, а волосы на руках встают дыбом. Пахнет озоном и чем-то едва уловимым, как перемена погоды.
– Идемте, – подталкиваю я всех вперед.
Кензи тянет меня за рубашку и с сочувствием смотрит на Кеплера. Тот обнимает себя руками и дрожит, словно его окунули в ледяную воду.
Вот дерьмо.
Нас ослепляет вспышка молнии. Дождь обрушивается ливнем, скрывая ото всех рыдания птенчика. Но это не спасает меня от фантомной пульсации незаживающих ран в моей груди. Я сжимаю челюсть и отворачиваюсь, стараясь скрыть выражение лица. И пускай Кензи читает мои чувства подобно открытой книге. Пока мы оба делаем вид, что это не так, я спокоен.
Почти.
Ромео натягивает капюшон и застегивает чехол с гитарой. Грейнджер с импульсивным остервенением пытается протереть линзы очков, а я опускаю взгляд на свою рубашку. Вижу пальцы Кензи, все еще сжимающие ее край. Его мысли перетекают мне в голову, сколько бы я их ни отталкивал. «Подожди», – думает он, а наши слова и чувства делятся поровну.
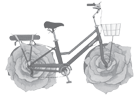
Глава 2. Бетельгейзе
ГрейнджерПриходящий с ночью пурпурный туман – единственная для нас, мертвых мальчишек, возможность пополнить запасы провизии и главное – напиться крови. Без нее мы протянем недолго. Как и без еды. Иссохнуть никому не хочется. Взять того же Ромео. Он настолько помешан на своей внешности, что готов тащить на несколько фунтов белковых продуктов больше, чем громила Базз. А за последнее в холодильнике яйцо и прибить может. Впрочем, я за свои йогурты тоже. И за их перестановку тоже.
Порядок в доме – порядок в голове.
Сколько себя помню, я любил все систематизировать. Если предметы стояли не в нужной мне последовательности, начиналась истерика. До поступления в школу многое в моем поведении списывалось на капризы, а после жизнь усложнилась. Я изо всех сил пытался контролировать свои реакции, но не мог. Не понимал, почему отличаюсь от остальных детей. И эта непохожесть становилась заметнее из года в год.
Первое время – в начальных классах – родители относились с пониманием. А иногда я слышал их разговоры за закрытой дверью, где папа успокаивал маму и просил ее проявить терпение. Она всхлипывала и соглашалась. Тогда пришло осознание, что слезы матери и задержки отца на работе – моя вина.
Я – бракованный.
Черная дыра, поглощающая всех вокруг.
Но начиналось все постепенно… С трех лет я расставлял игрушки по размеру: от трицератопса до тираннозавра, от диплодока до аргентинозавра. Став постарше, стратегию я неосознанно поменял. На седьмой день рождения мне подарили раскраску и целую гору фломастеров. Я настолько увлекся процессом, что не заметил, как разложил все по цветам.
Подход к динозаврам вскоре изменился. Теперь я систематизировал их по окрасу шкур и оперения, сверяясь с многочисленными иллюстрациями из книг. Возможно, это – оглядываясь назад – и стало для мамы последней каплей. Ведь до того она искренне верила: ее ребенок ничем не отличается от сверстников.
В детстве взрослые без особых усилий принимали правила моих игр. Умилялись моим проявлениям и считали их не более чем забавой – ярким гетерогенным[6] раствором в колбе среди гомогенных[7] смесей. Однако стоило этим правилам измениться – и все посыпалось.
Часто нас забавляют поступки детей, но с их взрослением мы ожидаем социально приемлемого поведения. Когда этого не происходит, всегда следует разочарование. Родители перестали меня принимать и постоянно нарушали мой распорядок. То забудут расположение носков в тумбе, то не в той цветовой последовательности выстроят чашки в сушилке… А еще вчера мы с папой вместе раскладывали фломастеры. Почему все изменилось? Каждый такой сбой в моей системе приводил к турбулентности, а за ней, точно доказательства за гипотезой, следовала сенсорная перегрузка и срыв.
В один из плохих дней мама впервые на меня накричала. Ее лицо покрылось багровыми пятнами. Руки дрожали. Из глаз на разрисованный линиями ковер падали слезы. Она долго кричала, а после – наверное, терзаясь муками совести, – плакала и обнимала меня, а я терпел и стискивал до боли зубы.
Вернув контроль над эмоциями, мама попросила прощения, и я на словах простил, поскольку не был уверен, что именно это означает. А в глубине меня, между нейронами – в синапсах – непонятные чувства циркулируют до сих пор. Как светлячки, которые двигаются по известной лишь им траектории, вдоль дороги. По той, которую жители Гровроуза позабыли из-за выстланного деньгами шоссе.
Поодаль в высокой траве стрекочут сверчки, а на милю вокруг слышны редкие автомобили, направляющиеся в большой город или казино. Из мотеля доносится смех. Я надеваю наушники и остаюсь наедине с собой. Бывает, даже собственные мысли такие шумные, что помогает лишь одно: уйти в цветущую рощу, лечь на землю и считать звезды, пока не наступит заветная тишина.
В магазинчике при заправке темно. Никаких раздражителей, кроме шума фильтра в аквариуме с пурпурной рыбкой-клоуном по имени Марлин. Поэтому я и предпочитаю собираться перед вылазкой заранее. Иначе тут не протолкнуться, а галдеж стоит такой, что не выдерживаю даже минуты.
В город мы всегда ходим группами. В пурпурном тумане нас поджидают неактивированные фантомы, принимающие облик людей, и зовем мы их лавандерами. Лица у них человеческие, а выглядят настолько искусственно, словно их облили фиолетовой краской. И носят они в себе наши непрожитые травмы, которые только и ждут повода, как бы развиться до черной сущности со светящимся оком и нас поглотить. Так оно и происходит: лавандеры лишь начальная ступень. Один неосторожный шаг – пиши пропало. Перейдут, точно в игре, на уровень выше, а за ним, возможно, есть еще. Считай, мегабосс. Но с подобным мы пока не сталкивались.
Я переключаю рубильник на стене магазина – и подвесные лампы, мигая одна за одной, освещают небольшое помещение. Раньше тут продавали предметы первой необходимости: теплую – из-за постоянно ломающегося холодильника – газировку, снеки и уйму контрацепции. Заходя сюда, я бросал взгляд на разноцветную полку с латексом и задавал отцу вопросы о сексе, совсем не понимая, почему он сгорал от стыда.
После сокращения из-за закрытия автомобильного салона отцу приходилось ездить в филиал соседнего города. Иногда по выходным он брал меня с собой, и я проводил там всю смену. Играл в кабинете и изредка высовывал нос, разглядывая машинки взрослых. Если продажи шли хорошо, мне разрешалось порулить понарошку. До педалей я не доставал, но это и неважно. Те мгновения – одни из самых счастливых в моей короткой жизни. Потому что за ними… просвета нет.
Глаза привыкают к яркому свету, и я прохожусь по рядам. Сейчас полки забиты всем необходимым для ночной вылазки. От сигнальных огней, бинтов, батареек, собачьих свистков до спичек и баллончиков, которые легко воспламеняются. Когда в генераторе заканчивается бензин, мы используем свечи. Нет свечей? Восковые мелки горят примерно полчаса. А еще «Читос» и «Доритос». Не спрашивайте меня. Задайте этот вопрос пустоголовому Баззу.
Я подхватываю из коробки изоленту и кладу в рюкзак. «Марсианин» четко дал понять: она залатает и скафандр, и жилой модуль. А уж с фантомами и подавно справится. Это, конечно же, шутка. Юмор у меня такой. Только обычно никто не смеется.
«Жаль, ей сердце не обмотать», – сказал мне однажды Ромео, пока мы сидели на крыше, наблюдая за метеорным потоком Геминиды.
А я ему и ответил: «Придется вскрыть грудную клетку».
Почему-то оказалось не смешно.
Зато изоленту удобно использовать в быту. Например, вместо пластырей для ног, а потом отдираешь ее с мозолью и диким воплем (последнее – мой личный опыт). И этот совет я заметил в журнале для охотников в разделе «Выживание в лесу». С тех пор на их вывеску с гризли смотрю с подозрением. А что до бега, то в нежизни без него никуда…
Вы читали повесть «Мгла» Стивена Кинга? Я – нет, и не собираюсь. Кензи рассказывал, что по сюжету городок охватывает таинственный туман, и группа людей застревает в супермаркете, сходя с ума от давящей изоляции. Однажды мне пришлось провести ночь в аптеке, окруженной фантомами, поэтому состояние тех героев понимаю хорошо. Не хотелось бы стать чьим-то поздним ужином. Кстати, об этом…
Корм у Марлина почти закончился, и я делаю мысленную пометку: «Захватить в зоомагазине пару упаковок». Один ушедший мальчишка достал рыбку из прошлого, чтобы не чувствовать себя одиноко. Не знаю, помогло ли ему это, но мне дополнительных забот поприбавило точно.
Никто, кроме меня, возиться с Марлином не захотел. Базз даже предлагал смыть его в унитаз, а Уиджи – приготовить из него суши. Кензи удалось подкупить батончиками, но он быстро научился притворяться забывчивой рыбкой Дори, не вспоминая о своих обязанностях, которые изначально мы поделили поровну. Но я на них не в обиде.
Привязанность всегда давалась мне с трудом, поэтому домашнего питомца у родителей я не просил. И теперь посмотрите, куда завела меня нежизнь. Оттираю со стенок аквариума зеленую муть, пока остальные веселятся на кухне мотеля.
Марлин виляет плавником, подплывая к поверхности, и выпрашивает еду.
– Прости, приятель, – высыпаю я ему остатки. – Придется потерпеть до завтра.
Он подпрыгивает на пузырьках аэратора, выказывая возмущение.
– А кому здесь легко…
По всем подсчетам, Марлин должен был отдать концы еще год назад, но, похоже, ему с нами нравится и уходить он не планирует. Базз считает, будто рыбку здесь держит та же неведомая сила, что и мертвых мальчишек, ведь обычно с их уходом пропадают и пурпурные вещи, но Марлин – посмотрите-ка! – никуда не собирается. Хотя… Возможно, в следующий раз, когда я зайду в магазин, Марлин исчезнет так же неожиданно, как и появился.
Собрав все необходимое, я прячу рюкзак под коробками за прилавком, чтобы никто ничего не вытащил, и выключаю свет. Сна ни в одном глазу, поэтому я огибаю магазин, дохожу до мотеля рядом и забираюсь по ржавой пожарной лестнице на крышу.
Наверху никого, и этот факт несказанно радует.
Я сажусь на край выступа и свешиваю ноги, вглядываясь в огни города.
Грозовые облака разошлись, оставив в память о себе ленивый ветер. Он изредка раскачивает потухшую неоновую вывеску мотеля над моей головой, а лунный свет разливается над рощей роз; отсюда бутоны кажутся совсем крошечными.
Днем цветы вдоволь напитались углекислым газом и водой, выделяя при этом побочный продукт в виде кислорода. С приходом ночи процессы замедлились, но не остановились насовсем. Сейчас, когда цветы мирно спят, свернув лепестки, в хлоропластах образуются простые сахара, замыкающие цикл.
Ничто не уходит в никуда. Все мы чем-то да будем. И даже звезды над Гровроузом когда-то станут чем-то иным, отличным от своей первоначальной формы. Ученые выяснили: если светило достигает массивных по меркам Вселенной размеров, то после взрыва оно превращается в настоящий космический фейерверк.
Красивый конец, не правда ли?
Хотя «красота» – спорное для науки явление, поэтому я предпочитаю говорить «социальный конструкт, навязанный человеком». Базз постоянно называет это «конструктором», чем выводит меня из равновесия, но вернемся к астрономии…
Порой привычные нам звезды – это следы того самого фейерверка. Смотрю я на сияющие точки в небе и все никак не могу выкинуть из головы: некоторые из них мертвы – давно погасли.
Насовсем.
Наверное, это и есть «смотреть в прошлое». Мне эта романтика дается с трудом. Не понимаю, зачем люди веками цепляются за что-то столь… бесполезное.
Есть такой красный гигант в созвездии Орион – Бетельгейзе. На расстоянии пятисот световых лет от Земли. Он ближайшее к нам светило, способное взорваться в любой момент. Бах! И нет его.
Жаль, мы не услышим, с каким звуком умирает частичка Вселенной. Возможно, увидим вспышку сверхновой где-то там, куда многие и не поднимут глаз из-за бытовых проблем – тех, что остаются на земле, а не нависают над головой.
Сначала на нас прольется дождь из безмассовых частиц, называемых нейтрино, а затем Бетельгейзе будет некоторое время напоминать о себе свечением, подобно Луне, медленно и тихо угасая, будто и не было этого гиганта. Наверное, станет тихо. Очень тихо.
А что есть тишина? Для многих – отсутствие звука. Но слышим ли мы ее? Этим вопросом я задался недавно, сидя здесь же, на крыше, пока вдалеке в честь праздника основания Гровроуза гремел салют. И я бы непременно им насладился, не раздражай меня шум.
Раз наша барабанная перепонка улавливает волновые колебания, значит, она работает непрерывно, верно? Но для чего? Чтобы понять: есть звук или его нет. Исходя из этого, получается, что мы и правда слышим тишину. Так я, по крайней мере, решил. И она для меня звучит гулом шумодава, когда подключаешь наушники к смартфону. Приятным ощущением уединения.
– Иисусе, Грейнджер, – слышу я, как из бочки, Ромео. Его голос доносится от пожарной лестницы слева и перемешивается с громыханием ступенек. – Ты опять в моем гнездышке. А я тут, между прочим, наблюдаю за птичками…
– Оно не твое. – Я стягиваю наушники из вежливости и с неохотой. – Потому что ты мертв, а мертвецам собственность не полагается. Можешь подать в суд. Но ты мертв, а ме…
– Да-да, я принял к сведению, зануда.
Он подходит ко мне, садится слишком близко, подгибая одну ногу под себя, и я отодвигаюсь. Не в обиду. Не люблю прикосновения. Мое личное пространство измеряется длиной вытянутой руки. В плохие дни – даже двух.
– А мертвые в суд не ходят, – заканчиваю я предложение, ведь иначе не могу.
Поэтому не люблю, когда меня перебивают.
Вот, посмотрите-ка! Ромео уже несколько раз нарушил мои правила. С ним всегда непросто. Шумный прилипала, которого я видел в последний раз без улыбки разве что… в гробу.
Конечно, это умышленная гиперболизация. Ромео умеет плакать. Например, над мультфильмами про умирающих животных. Мать Бэмби, Муфаса… И каждый раз как в первый.
В том году я спросил его прямо в лоб: «Почему ты их смотришь, раз они тебя расстраивают?» А он зачесал волосы пальцами и выдал: «Пока ты не задал вопрос, я и не задумывался. Наверное, проверяю, не умер ли я внутри».
Тогда я не понял ровным счетом ничего, а теперь, спустя столько туманных ночей, некоторые вещи стали для меня проясняться. Хоть мы и мертвые мальчишки, но не гнием заживо. И почти все болезни тела в нежизни нас оставили. Чего не сказать о стенаниях души…
Но эти рассуждения не для меня. И понятие душевности мне чуждо. Я верю в сознание. А мальчишки часто ведут дискуссии о прошлом, настоящем и том, что ждет нас там – за билбордом.
«Ничего», – вертится на языке, но… никогда не слетает.
– Зациклился на звездах из-за новенького? – Ромео прикрывает веки и подставляет лицо прохладному ветру. – Молчишь, аж в сон потянуло.
На подсчете я застревал и при жизни. Помню, мне было одиннадцать. Мы с родителями отправились в большой город. Небоскребы пробивали крышами облака, и я не мог отвести взгляд от бликующих на солнце окон. Такие сооружения мне доводилось видеть только в кино и на открытках, которые я часами рассматривал на стенде в редакции местной газеты. В реальности – ни разу.
И вот опаздываем мы на самолет, а передо мной, как из-под земли, вырастает здание из стекла. То ли офис, то ли элитное жилье. Я застыл с открытым ртом и стал считать этажи. Родители – особенно мама – все подгоняли, сбивая меня, и приходилось начинать заново. Произошла сенсорная перегрузка, и я на всю улицу закричал. А вокруг еще люди, машины и шум. Много шума. Пришлось закрыть уши руками, и только тогда мир затих.
Этажи я досчитал, но на самолет мы, естественно, опоздали. Мама злилась на папу. Папа злился на маму. Тогда я и понял, что на самом деле злятся они на меня, однако здравый смысл и общественное порицание не позволяли им делать это открыто. И в будущем, стоило ругани вспыхнуть вновь, я ощущал виноватым себя. Даже в те моменты, когда это очевидно было не так.

