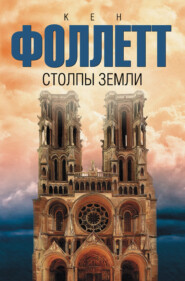скачать книгу бесплатно
– Я не уверен.
– Однако они додумались, как его покормить.
Том начал понимать, что она права. Как ни стремился прижать к груди этот крохотный комочек, он не мог не признать, что монахи лучше, чем он, позаботятся о ребенке. У него не было ни еды, ни денег, ни надежды вскоре получить работу.
– Снова оставить его, – печально сказал Том. – Боюсь, мне придется это сделать. – Из своего укрытия он пристально вглядывался в маленького человечка, завернутого в подол сутаны. Волосы младенца были темными, как у Агнес… Том уже принял решение, но не в силах был даже отвести взгляд от малыша.
Пятнадцать или двадцать монахов, с топорами и пилами, появились на другом конце поляны. Оставаться дольше стало опасно – их могли заметить. Том и Эллен нырнули в заросли, и Том уже не мог видеть сына.
Они осторожно пробрались сквозь кустарник, а когда оказались на дороге, со всех ног бросились бежать. Держась за руки, они пробежали триста или четыреста ярдов, на большее у Тома не хватило дыхания. Однако они были уже далеко, и теперь, сойдя с дороги, могли отдохнуть в укромном месте.
Они уселись на травянистом берегу речки, пестревшем пятнами солнечного света. Том посмотрел на Эллен, которая лежала на спине, тяжело дыша; ее щеки горели, а губы улыбались ему. Платье на груди распахнулось, обнажив шею и холмик груди. Внезапно ему снова захотелось полюбовался ее наготой, и желание оказалось гораздо сильнее, чем чувство вины. Том наклонился, чтобы ее поцеловать, и замер: она была так прелестна, глаз не отвести. Когда он заговорил, то сам изумился собственным словам.
– Эллен, – сказал Том, – будь моей женой.
Глава 2
I
Питер из Уорегама был прирожденным смутьяном. В этот маленький лесной скит его перевели из главного монастыря в Кингсбридже, и легко было догадаться, почему кингсбриджский приор так стремился от него избавиться. Питер был высоким, поджарым человеком лет тридцати, он был умен и насмешлив и постоянно испытывал праведное негодование. Когда впервые отправился в поле с монахами скита, он работал с бешеной скоростью, обвинив остальных в лености. Однако, как ни странно, большинство монахов оказались в состоянии выдерживать его темп, и очень скоро самые молодые из них его уморили. Тогда он переключился на другие грехи, и следующим стало обжорство.
Начал Питер с того, что отказался от мяса и съедал лишь половину порции хлеба. В течение дня он пил воду из ручья да разбавленное пиво и не притрагивался к вину. Он сделал замечание молодому крепкому монаху, когда тот попросил добавки каши, и довел до слез юношу, который шутки ради выпил чужое вино.
«…Нет оснований упрекать монахов в чревоугодии», – размышлял приор Филип, спускаясь вместе с остальными братьями с холма к скиту, где их поджидал обед. Молодые послушники были худыми и мускулистыми, а монахи постарше – загорелыми и жилистыми. Ни один из них не был ни бледным, ни обрюзгшим, как бывает с людьми, которые много едят и ничего не делают. Филип считал, что монахи должны быть тощими, в противном случае они могли вызвать у бедняков зависть и ненависть к слугам Божьим.
Характерно, что Питер представил свое обвинение в виде покаяния.
– Грех чревоугодия лежит на мне, – сказал он, когда однажды утром монахи, прервав работу, расселись на поваленных деревьях и принялись есть ржаной хлеб, запивая его пивом. – Я ослушался завета Святого Бенедикта, который гласит, что монахи не должны есть мясо и пить вино. – Высоко подняв голову, он обвел сидящих взглядом; его черные глаза гордо сверкнули, остановившись на Филипе. – Но сей грех есть на каждом из присутствующих, – заключил он.
«Печально, что у него такой характер», – подумал Филип. Питер посвятил свою жизнь служению Богу, он обладал незаурядным умом и целеустремленностью, но, казалось, у него была непреодолимая потребность обращать на себя внимание окружающих, устраивая всевозможные сцены. Он был настоящим занудой, но Филип любил его так же, как каждого из братьев, ибо видел, что за высокомерием и заносчивостью скрывалась беспокойная душа человека, не уверенного в том, что хоть кому-то есть до него дело.
– Это дает нам основание вспомнить, что говорит об этом Святой Бенедикт. Помнишь ли ты в точности его слова, Питер?
– Он говорит: «Все, кроме немощных, да воздержатся от мяса», и затем: «Вино – не питье для монахов», – ответил Питер.
Филип кивнул. Как он и подозревал, Питер не так-то хорошо помнил этот завет.
– Почти правильно, Питер. Правда, Святой Бенедикт не говорил о мясе, но о «плоти четвероногих животных», и даже тут он делал исключение не только для немощных, но и для слабых. А кто есть «слабые»? Здесь, в нашей маленькой общине, мы пришли к заключению, что тот, кто утомился, усердно работая в поле, нуждается в мясе, дабы восстановить утраченные силы.
В угрюмом молчании Питер слушал слова приора, по лбу его пролегли морщины несогласия, черные густые брови сомкнулись над большим крючковатым носом, и все лицо его выражало с трудом сдерживаемое негодование.
– Что же касается вина, – продолжал Филип, – сей праведник говорит: «Мы полагаем, что вино – не питье для монахов». Использование слов «мы полагаем» означает, что он вовсе не требует соблюдать этот запрет. И потом, он утверждает, что пинты вина в день вполне достаточно для каждого. И еще он наставляет нас не пить допьяна. Разве не ясно, что он не настаивает на том, чтобы монахи вообще отказались от вина?
– Но он говорит, что во всем следует соблюдать умеренность.
– И ты утверждаешь, что мы недостаточно умеренны? – спросил Филип.
– Да, утверждаю, – не унимался Питер.
– «Да воздается каждому, кого Бог наградил даром воздержания», – процитировал Филип. – Если тебе кажется, что здешняя пища слишком обильна, ты можешь есть меньше. Но припомни, что еще говорит праведник Бенедикт. Он ссылается на первое послание к коринфянам, в котором апостол Павел утверждает: «У каждого свой дар от Бога, у одного один, у иного иной» – и объясняет нам: «По сей причине нет возможности без сомнения определить, сколько пищи потребно другим». Пожалуй, запомни это, Питер, и не спеши с выводами, размышляя о грехе чревоугодия.
Пора было снова приступать к работе. Питер имел вид мученика. Филип подумал, что не так-то легко заставить этого человека молчать. Из трех монашеских обетов – нищеты, безбрачия и послушания – только послушание никак не давалось Питеру.
Понятно, что существовали меры воздействия на непокорных монахов: нахождение под замком, содержание на хлебе и воде, порка, а также отлучение и изгнание из монастыря. Обычно Филип без колебаний применял эти наказания, особенно в тех случаях, когда кто-то из братьев пытался посягнуть на его власть. И в результате он снискал себе славу поборника строгой дисциплины. На деле же он ненавидел наказания, ибо они вносили в монашеское братство разлад и уныние. Однако в случае с Питером наказание не принесло бы никакой пользы, а только сделало бы его еще более непокорным и неумолимым. Филипу нужно было найти средство сломить его гордыню и в то же время умиротворить. Не так уж это просто. Но если бы в этом мире все было просто, тогда люди не нуждались бы в Господнем попечении.
Когда они достигли поляны, на которой стоял скит, Филип увидел, что недалеко от того места, где паслись козы, стоит брат Джон и энергично машет им рукой. Звали его Джонни Восемь Пенсов, и был он немного слабоумным. «Чем это он взволнован?» – удивился Филип. Рядом с Джонни сидел человек, одетый в сутану священника. Его внешность показалась знакомой, и Филип прибавил шагу.
Священник был невысоким, плотным человеком лет двадцати пяти, с коротко остриженными черными волосами и светящимися живым умом ярко-голубыми глазами. Смотреть на него значило для Филипа то же самое, что смотреть в зеркало. Изумленный, он узнал в нем своего младшего брата Франциска.
Франциск держал на руках младенца.
Трудно сказать, кому Филип удивился больше, – брату или ребенку. Вокруг столпились монахи. Франциск встал, передал малыша Джонни, и они с Филиппом обнялись.
– Каким ветром тебя занесло?! – радостно воскликнул он. – И откуда этот ребенок?
– Позже скажу, почему я здесь, – ответил Франциск. – Что же до младенца, то я нашел его в лесу, возле горящего костра… – Он замолчал.
– И… – промолвил Филип.
Франциск пожал плечами:
– Больше мне нечего сказать, потому что это все, что мне известно. Я надеялся добраться сюда вчера вечером, но не рассчитал, и мне пришлось провести ночь в сторожке лесника. На рассвете я снова тронулся в путь и с дороги услышал плач ребенка. А через минуту увидел и его самого. Я подобрал его и привез сюда. Вот и вся история.
Филип недоверчиво взглянул на крошечный комочек, который держал Джонни. Он неуверенно протянул руку, приподнял краешек покрывала и увидел сморщенное розовое личико, открытый беззубый ротик и плешивую головку – ей-ей, маленькая копия старого монаха. Еще немного приоткрыв покрывало, Филип разглядел хрупкие плечики, трясущиеся ручки и крепко сжатые кулачки. Из живота младенца торчала отвратительная на вид обрезанная пуповина. «Неужели так и должно быть?» – изумился Филип. Она была похожа на заживающую рану, и, наверное, лучше было ее не трогать. Он заглянул еще дальше.
– Мальчик, – сказал Филип, смущенно кашлянув, и опустил покрывало. Кто-то из послушников хихикнул.
Внезапно Филип почувствовал себя беспомощным. «Что же с ним делать? – размышлял он. – Кормить?»
Ребенок заплакал, и пронзительный детский плач, словно гимн человеческой жизни, тронул его до глубины души.
– Он хочет есть, – заволновался Филип, а про себя подумал: «Я-то откуда знаю?»
– Но мы не можем его покормить, – сказал один из монахов.
Филип чуть было не возразил: «Почему не можем?» – но вовремя понял: на многие мили вокруг не было ни одной кормящей женщины.
Однако оказалось, что Джонни уже решил эту проблему. Сев на скамью с закутанным в подол младенцем, он окунул скрученный в жгут кончик полотенца в бадью с молоком и, подождав, пока ткань пропитается, сунул его в ротик малыша. Тот пососал и сделал глоток.
Филип почувствовал облегчение.
– Хорошо придумано, Джонни, – удивленно сказал он.
– Я уже так делал, когда умерла коза, у которой был сосунок, – гордо заявил Джонни, улыбаясь во весь рот.
Собравшиеся внимательно следили, как Джонни повторял свое нехитрое действие. Забавно было видеть, как в тот момент, когда Джонни подносил мокрый кончик к губам ребенка, некоторые монахи непроизвольно раскрывали рты. Кормление занимало немало времени, но ведь это дело простым и не назовешь.
Питер из Уорегама, глядя на младенца, на некоторое время поддался всеобщему порыву и забыл о своей манере критиковать все на свете, но вскоре он спохватился и произнес:
– Было бы гораздо меньше хлопот, если бы нашли мать этого чада.
– Сомневаюсь, – сказал Франциск. – Мать его, по всей вероятности, женщина незамужняя, заблудшая во грехе. Думаю, она молода и, возможно, ей удалось сохранить в тайне свою беременность. А когда подошло время рожать, пришла в лес, развела костер, родила в полном одиночестве и, бросив ребенка на съедение волкам, вернулась туда, откуда пришла. Уж она позаботится о том, чтобы ее не нашли.
Малыш заснул. Поддавшись внезапному порыву, Филип взял у Джонни ребенка и, покачивая, бережно прижал к груди.
– Бедное дитя, – сочувственно проговорил он. – Бедное, бедное дитя.
Его охватило горячее желание защитить и уберечь малютку. Он заметил, что монахи уставились на него, пораженные его внезапным порывом нежности. Конечно, они никогда не видели от него ласки, ибо излишнее проявление чувств было строжайше запрещено в монастыре. Очевидно, они считали его не способным на такие чувства. Что ж, пусть знают правду.
– Тогда мы должны отвезти его в Винчестер, – снова начал Питер из Уорегама, – и постараться найти кормилицу.
Если бы это сказал кто-нибудь другой, Филип, может, и не стал бы сразу возражать, но это сказал Питер, и Филип, потеряв терпение, вспылил.
– Мы не будем искать кормилицы, – решительно произнес он. – Этот младенец – дар Божий. – Он обвел глазами стоявших вокруг братьев. Монахи таращились на него, прислушиваясь к его словам. – Мы сами позаботимся о нем. Мы будем его кормить, учить и воспитывать по законам Божьим. А когда он вырастет, сам станет монахом, и таким образом мы вернем его Господу.
Наступила звенящая тишина.
– Это невозможно! – возмутился Питер. – Не может младенец воспитываться монахами!
Филип поймал взгляд своего брата, и они оба улыбнулись, вспомнив об одном и том же. Когда Филип вновь заговорил, его голос звучал твердо, и каждое слово несло печать пережитого.
– Невозможно? Нет, Питер. Напротив, я совершенно уверен, что возможно. И мой брат думает так же. Нам это известно из собственного опыта. Не так ли, Франциск?
В тот день, который встал в памяти Филипа, его отец вернулся домой израненным.
Филип первым увидел, как он скакал по извилистой дорожке, поднимавшейся к небольшой деревушке в горах Северного Уэльса. Как обычно, шестилетний Филип выбежал ему навстречу, но на этот раз отец не подхватил мальчугана, чтобы посадить впереди себя на коня. Он ехал медленно, с трудом держась в седле – в правой руке поводья, левая беспомощно повисла. Лицо его было бледным, одежда забрызгана кровью. Это испугало и озадачило маленького Филипа, так как прежде он никогда не видел отца таким немощным.
– Позови маму, – сказал отец.
Когда они помогли ему войти в дом, всегда такая бережливая мать решительно разодрала добротную одежду отца, что поразило Филипа даже больше, чем вид крови.
– Не беспокойся обо мне, – сказал отец, но его обычно резкий голос ослаб до шепота, и никто даже не обратил на это внимания, что также было весьма странным, ибо слово отца было законом для остальных. – Оставь меня и уведи всех в монастырь. Проклятые англичане будут здесь с минуты на минуту.
Монастырь и церковь находились на вершине холма, но Филип никак не мог понять, с какой стати им нужно идти туда, если этот день не был даже воскресеньем.
– Если не остановить кровь, ты совсем ослабеешь, – возразила мама, а тетушка Гуин сказала, что нужно поднять тревогу, и ушла.
Спустя годы, размышляя о последовавших затем событиях, Филип понял, что в тот момент все позабыли о нем и его четырехлетнем брате Франциске и никто не подумал прихватить их в спасительный монастырь. Людей заботили только собственные дети, и они считали, что раз Филип и Франциск с родителями, о них есть кому позаботиться. Но отец истекал кровью, а мать пыталась его спасти, вот и получилось, что все четверо попали в лапы к англичанам.
Своим ничтожным жизненным опытом Филип не был подготовлен к появлению двух вооруженных людей, которые пинком распахнули дверь и ввалились в дом. При других обстоятельствах они, возможно, и не показались бы такими страшными, ибо были всего лишь большими, неуклюжими юнцами, которые только и умели, что дразнить старух, издеваться над евреями да затевать по ночам драки у трактиров. Но в тот момент (Филип понял это через много лет, когда наконец смог спокойно думать о том страшном дне) те двое были одержимы жаждой крови. Только что закончилась жестокая битва, они слышали, как стонут в агонии воины, видели, как падают замертво их товарищи, и буквально обезумели от ужаса. Но в том бою они победили и теперь их охватил азарт преследования врагов; ничто уже не могло их удовлетворить – только еще большая кровь, душераздирающие стоны, страшные раны и новые смерти. Все это было написано на их перекошенных лицах, когда они, словно лисы в курятник, ворвались в комнату, где лежал раненый отец.
Движения их были стремительны, но Филип запомнил каждый шаг, будто в тот момент время замедлило бег. Одежду обоих составляли только короткие кольчуги и кожаные шлемы с металлическими пластинками. В руках мечи. Один – отвратительный урод, косоглазый с большим кривым носом, оскалившийся в обезьяньей ухмылке. У другого была пышная борода, перепачканная кровью, – вероятно, чужой, ибо сам он не выглядел раненым. Не останавливаясь, они обшарили комнату глазами. Их беспощадные, расчетливые взгляды миновали Филипа и Франциска, задержались на маме и остановились на отце. Прежде чем кто-либо успел пошевельнуться, они подскочили к нему.
Склонившаяся над отцом мама перевязывала ему руку. Она резко выпрямилась и повернулась к незваным гостям, ее глаза вспыхнули отчаянием и отвагой. Отец вскочил, схватившись здоровой рукой за эфес. Филип в ужасе заплакал.
Кривоносый, подняв меч, ударил маму эфесом по голове и отшвырнул в сторону, должно быть, не желая рисковать, пока отец жив. Позже Филип вспомнил, как в тот момент бросился к матери, не отдавая себе отчета в том, что она уже не могла его защитить. Кривоносый шагнул мимо бесчувственной женщины, вновь поднял меч. Филип вцепился в юбку матери, не в силах отвести взгляда от отца.
Тот обнажил меч и, защищаясь, поднял его. Кривоносый обрушил удар сверху вниз, и два лезвия зазвенели, столкнувшись друг с другом. Как все маленькие дети, Филип думал, что отец непобедим, но в тот момент ему суждено было узнать горькую правду. Отец же, ослабев от потери крови, не удержал удара и выронил меч. Нападавший замахнулся снова и без промедления опустил свой меч, старясь попасть между мускулистой шеей и широким плечом. Филип завизжал, увидев, как острый клинок вошел в тело, а кривоносый выдернул меч и вонзил его в живот умирающего.
Смертельно напуганный Филип взглянул на поднимавшуюся на ноги маму. Их глаза встретились, но в этот момент бородатый сбил ее с ног. Она упала рядом с сыном – голова в крови. Бородатый перехватил меч, взявшись за него двумя руками и, направив острием вниз, высоко поднял и с силой опустил. Когда клинок коснулся груди матери, раздался отвратительный хруст ломающихся костей. Лезвие вошло так глубоко (Филип заметил это даже тогда, охваченный животным страхом), что, должно быть, вышло из спины и пригвоздило ее к полу.
Обезумевшими глазами Филип снова посмотрел на отца. Он увидел, как тот навалился на меч кривоносого и из его рта хлынула кровь. Убийца отступил и дернул за рукоятку, пытаясь высвободить оружие, – безуспешно. Отец, шатаясь, сделал шаг вперед. Кривоносый заревел от ярости и провернул меч в животе своей жертвы. На этот раз клинок вышел. Отец упал, схватившись руками за разверстую рану, словно пытаясь ее прикрыть. Филип тогда еще думал, что человеческие внутренности представляют собой нечто цельное, и вид вываливающихся кишок вызвал у него приступ рвоты. Кривоносый поднял меч над распростертым телом отца и так же, как только что бородатый, нанес последний удар.
Англичане переглянулись, и Филип прочел на их лицах удовлетворение. Обернувшись, они посмотрели на него и Франциска. Один из них вопросительно кивнул, другой пожал плечами, и Филип понял, что они собирались зарезать и их с братом тоже; когда он представил, как будет больно, его охватил такой ужас, что показалось, голова вот-вот лопнет от страха.
Бородатый быстро наклонился и схватил Франциска за лодыжку. Он держал его вверх ногами, а малыш заливался слезами и звал на помощь мать, не понимая, что она мертва. Кривоносый отвел назад держащую меч руку, приготовившись пронзить сердце ребенка.
Но удара так и не последовало. Раздался властный голос, и двое негодяев замерли на месте. Вопли стихли, и до Филипа дошло, что это были его вопли. Он взглянул на дверь и увидел аббата Питера, который стоял в своей домотканой сутане, в глазах его пылал праведный гнев, а в руке, словно меч, он держал деревянный крест.
Когда события того страшного дня оживали в ночных кошмарах Филипа и он просыпался в холодном поту, рыдая в темноте, ему удавалось постепенно успокоиться и снова заснуть, лишь вызвав в памяти эту финальную сцену и то, как безоружный человек с крестом в руке положил конец истошным крикам и зверской расправе.
Аббат Питер заговорил вновь. Филип не понимал языка – конечно, это был английский, – но и так было ясно, что он сказал, ибо насильники выглядели пристыженными, и бородатый осторожно опустил Франциска. Продолжая говорить, монах большими шагами уверенно вошел в комнату. Вооруженные до зубов воины попятились, словно испугавшись его и святого креста. Он повернулся к ним спиной, всем своим видом демонстрируя презрение, и наклонился к Филипу. Его голос звучал спокойно.
– Как твое имя?
– Филип.
– А да, припоминаю. А твоего брата?
– Франциск.
– Так… – Аббат взглянул на окровавленные тела, лежавшие на земляном полу. – Это твоя мама, не так ли?
– Да, – пролепетал Филип и, чувствуя, как его охватывает паника, указал на изувеченное тело отца. – А это мой папа!
– Мне это известно, – успокаивающе произнес монах. – Не надо плакать, просто отвечай на мои вопросы. Понимаешь ли ты, что они умерли?
– Я не знаю, – жалобно ответил Филип. Он знал, что значило, когда умирали животные, но как такое могло произойти с мамой и папой?
– Это как если бы они заснули, – сказал аббат Питер.
– Но у них открыты глаза! – закричал Филип.
– Тише! Тогда их надо закрыть.
– Да, – прошептал Филип.
Ему показалось, что это и впрямь будет лучше.
Аббат Питер выпрямился и подвел детей к телу отца. Затем, встав перед ним на колени, взял Филипа за правую руку.
– Я покажу тебе, как это делается, – сказал аббат, притянув руку мальчика к отцовскому лицу, но Филипу вдруг стало страшно к нему прикоснуться. Отец выглядел так странно, был таким бледным, обмякшим и изувеченным, что он отдернул руку и с тревогой посмотрел на аббата Питера – человека, которого никто не смел ослушаться, – но тот не рассердился.
– Ну же, – мягко сказал аббат и снова взял Филипа за руку. На этот раз тот не сопротивлялся. Держа указательный пальчик Филипа, монах прикоснулся им к мертвому веку, закрыв страшный вытаращенный глаз. Отпустив руку мальчика, он сказал: – Теперь прикрой и второй.
Уже самостоятельно Филип протянул руку и закрыл отцу второй глаз. Ему даже стало немного лучше.
– А мамочке закроем глаза? – спросил аббат Питер.