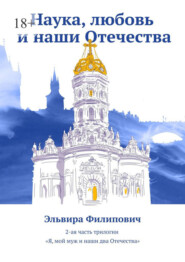скачать книгу бесплатно
Зубрилин, похожий чем-то на зубра старик, с мощной шеей, высоким лбом, массивным носом и внимательно-усмешливым взглядом больших, глубоко посаженных глаз из-под густющих бровей. Ему надо было доложить в течение пяти минут, а не успеешь, пеняй на себя, дальше ВИЖа не сунешься. Желающих полно, и не только аспиранты. Вернее, даже аспирантов было всего несколько: Стрекозов Коля, Мадисон Володя, Карликов Дима. Больше из аспирантов никого не видела. Зато сотрудников! Обаятельный Эрнст, красавец Коряжнов, скромняга Шихов, небольшого роста, мечтающий о министерской карьере Коноплев… Это из тех, что прошли (уложились в пять минут).
«Хоть и перестарок, но молодой, дорога перед тобою большая», – сказал Зубрилин Эрнсту и смачно с ним поручкался. «Пойдешь далеко, если никто не остановит!» – сказал мне и тоже руку потряс.
В узких коридорах старинного здания ВАСХНИЛ толпятся «молодые ученые». Заседают экспертные комиссии по отбору докладов на Президиум ВАСХНИЛ. У кабинета ответственного секретаря президента академика Овсянникова, кормленца, собралось молодежи человек восемь. Из ВИЖа это Махаев, Минько Люба и я. Из института физиологии и биохимии, где директором профессор Шманенков, аминокислотчик Григорьев. Градусов, тоже аминокислотчик, но бумажный, потому что работает секретарем в ВАСХНИЛ и ни поросенка, ни куренка (материал, которому скармливают аминокислоты) сроду в руках не держал. И еще двое парней-аспирантов было из Тимирязевки.
Я здорово готовилась. Доклад знала наизусть. К тому же постаралась одеться, чтобы старикам нравилось: юбка черная длиннее колен и закрытая, белая из шелка блузочка. Деды-корифеи улыбались мне. Доклад оценили как лучший, рекомендовали заслушать на Президиуме ВАСХНИЛ и автору, мне то есть, выдать премию. От радости чуть не прыгаю. Подлетаю к своим коллегам… И тут вдруг меня поразила странно неприятная окаменелость их лиц. Даже Рядчиков не очень, казалось, был доволен таким решением, хотя меня поздравил.
– И Томмэ, и Солун, и Денисов, и Дыман – все эти корифеи науки давно устарели, не им судить о работах молодых, – сказал в раздумье Виктор. – Ну что ж, выбирать-то им было не из чего. Я поняла, что Рядчиков имел в виду себя. Тут же с ним согласилась:
– Да, если бы ты выступал, то мне бы не светило.
Он утвердительно кивнул и уже с обычной приветливостью старшего друга протянул свою перепачканную нингидрином* ладонь: «Приходите с Ивой в гости! И обязательно с Ленкой. Чтобы Витьке не было скучно».
* Нингидрин – химический реактив, используемый для определения аминокислот.
О неизвестной ранее функции витамина В
Хотя работ, посвященных витамину В
, немало, в основном у американцев, механизм действия его в животном организме до конца не выявлен. Американцы (Вейсбах и другие) так же, как и наши (Букин и другие), предполагают, что это – участие в реакции синтеза незаменимой аминокислоты метионина. Однако наши работы (мои и сотрудниц В. Н. Букина) показали, что витамин В
участвует не только в синтезе метионина, но и в реакции его катаболизма, т. е. распада. Крысы, которым давали рацион с большим избытком метионина, росли еще медленнее, чем с недостатком его в рационе, а витамин В
это угнетение роста полностью снимал.
Это было новым в науке биохимии и вскоре в академическом журнале «Прикладная биохимия и микробиология» появилась статья за подписью Букина, его сотрудниц и моей.
Интересно, а как будет себя вести В
на фоне рациона, избыточного по какой-либо другой аминокислоте или нескольким? И я уже мечтаю опыт провести. Однако Томмэ осаживает меня: интересного еще много будет, на всю жизнь хватит и дочке останется (он уже знаком с Леной), а надо скорее писать и защищаться.
Вот и езжу в библиотеку, в Москву, серую, суетную, с ее клубками очередей, которые и мне приходится выстаивать. Сейчас уже и на Ленинском проспекте очереди. Повсюду…
А уже весна близится. Днем нет морозов. Иво принес веточек ивы с реки и приготовил вкусный обед. А во второй половине дня – почта, и среди писем долгожданное от Йирковых. Поздравляют меня и Лену с женским днем. «Люба работает, дети учатся. Оля ходит на рисование и на английский. Яну трудновато привыкается к новой обстановке, Иван радует успехами в школе…»
А я ужасно рада, что у них всё-всё хорошо.
Милое сердцу непривычное слово «папа»
Кончаю писать литобзор диссертации. Сижу до закипания мозгов, до ломоты в заднице. Надо б размяться, сходить погулять, но Шура, аспирантка из Молдавии, которая поселилась в нашем же коридоре напротив, отказывается идти наотрез, а больше девчат в коридоре нет. Иво тоже нет, он в Москве, опыт на крысах проводит. Там же, в мясо-молочном институте, и живет. Выхожу на малюсенький балкончик, что в самом конце коридора нашего. Вовсю слыхать, как лягушки квакают и соловьи орут. Туда бы, к Пахре! Однако одной в такую пору страшновато, а с однокурсником-аспирантом, который предлагал прогуляться вместе к реке, не посмела. Может быть, потому, что он мне очень нравился. Но и спать в такую ночь не могла, продолжала писать.
А утром отец приехал! Нежданно. Сижу со своей писаниной, вдруг заходит, лысый, приземистый, родной. Иво еще в Москве на опыте своем, Ленусь гулять умчалась… У меня от радости дух захватывает.
– В Кировске только Вера Григорьевна (жена) осталась, да Вика с зятем, а я во Псков переехал. К вам поближе. Вот сел да прикатил, рядом ведь, – объяснил он свое внезапное появление. – И если что с ночлегом не получится, то вечером и обратно поверну.
– Да хоть сколько живи у нас, – говорю, – все тебе рады будут!
Как учуяли: сначала доча примчалась. Радостно удивленная, познакомилась, наконец, с родным дедом. Потом, тоже нежданно, Иво. Отец как раз гостинцы свои разложил: копченый балык из семги, палтус копченый и другой рыбы. А Иво колбасы привез из Москвы. Лена быстренько за хлебом слетала. Сели пировать. Иво с отцом сразу о рыбалке заговорили. Отец ловил в северных реках и на Чудском озере. От Пскова недалече. «Приезжайте!» – приглашает нас. Однако мы в июле ждем гостей: должна Ивина мама приехать со своим мужем, которого мы не знаем еще.
– Вот все ко мне и подваливайте, – радушно предлагает отец.
– Мы согласны. Подвалим!
Отец Григорий Иванович Смирнов в Дубровицах, 1966 г.
Снова я могу произносить непривычное мне и такое милое слово «папа». «Папа!» – говорю. «Чего?» – откликается он. «Да так. Ничего», – отвечаю. Он сидит напротив меня за столом, на котором разложены исписанные цифрами листы: результаты опытов, математическая обработка результатов. Папа на листки не смотрит, только на меня. Терпеливо ждет, когда кончу считать. Кормит обедом. Он вкусно, по-мужски, готовит. И после обеда вытаскивает меня на прогулку. Ленусь тоже с нами. К реке идем узенькой тропочкой через поле.
– В кильватер идем, – говорит он. Сразу вспоминается, что отец – моряк. Однако про жизнь свою прежнюю на море неохотно рассказывает. Зато с каким смаком, по-моряцки клянет он «Людоеда» усатого, который, «слава Богу, подох», и всех «упырей», что еще «живут – тешатся в Кремле».
– Бомбы атомной мало на них. Водородной бы шугануть!
– Да ведь невинных заденешь!
– То-то и оно, – соглашается. – Бомба – дура, еще дурней пули. А то бы… Жалко мне его, натерпелся в жизни. И смешно. Он не обижается, что смеюсь, только говорит: «Когда-нибудь сама всё узнаешь. Поймёшь…»
Свекровь Ружена, муж ее Франтишек и отцово семейство в Пскове
Встречаем дорогих гостей: маму Ивину и нового (недавно поженились) мужа ее Франтишека…
Приехали своим ходом, на старой доброй «Шкоде». Добирались через Карпаты, дивились красоте, однако остановиться там побоялись. Гнали скорее сюда. Мама-Бабичка довольная, счастливая, как никогда. Франтишека своего, здоровенного дядьку с пузом пивным, обихаживает, словно ребенка. А он развалился, наелся-напился (пива), словно котяра, и аж мурлычет.
Решили они, что три-четыре дня посмотрят Москву, в Мавзолей сходят, а потом во Псков поедем. Отец написал, что договорился с приятелем своим, который на маяке работает на Чудском озере. Рыбалка там, какой не видали…
Уже на следующий день планы поменялись. Устал Франтишек от Москвы, без хорошего пива измучился. Решил, что шут с ним, с Мавзолеем, и со всеми выставками и музеями. Поедем скорей на рыбалку…
Дала отцу телеграмму, что выезжаем. И выехали. Мы с Ивой и Леной поездом, а Маминка с Франтиком на «Шкоде».
Псков поразил своей русскостью: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Однако же и то бросается в глаза, что этот дух русской старины душили как могли. В храме семнадцатого века – выставки-продажи: одежда, белье, правда, еще и книги, но отнюдь не церковные. А в малых церквах, а это шестнадцатый, пятнадцатый и даже тринадцатый века, – сплошь склады… И все комолые стоят, без крестов. Массивные купеческие особняки тоже все обшарпанные. И всюду верёвки с бельём, которое где только не сушится: в палисадах заброшенных, во дворах, а в новых домах – на всех балконах.
Отцов дом в Историческом переулке – приземистый, деревянный – еле отыскали. За зеленью палисадника почти не виден. Навстречу выбежали девушки, одна светло-русая, деревенской стати, другая чернявая, с мягкими, но правильными чертами овального лица, совсем еще молоденькая. Разные, и что-то общее. Обе отцовы дочки, схожие с ним. Мои сестры. Подошли, улыбаются.
– Эля? Иво? А мы нынче и не ждали. Думали завтра…
– Сестры?
– Сестры. Я – Люда, – протянула руку старшая, с глазами небесного цвета и в усмешке чуть покривила полные, как у отца, губы, – а это Валя, – наша самая младшая.
– А ты кто? – радостно-бойко спросила меня черноволосая Валя и сразу же повисла целоваться.
– Еще одна?! – со смешком вопрошала меня Люда.
– Еще одна, – ответила ей, – и между прочим, старшая.
– Есть и постарше. И братцы есть, и сестра. Казька постарался. Много нас наделал, – с ядом в голосе сказала Люда.
– Казька пошел на базар за мясом, – не переставая меня теребить, сообщила младшенькая.
Казькой они отца зовут. Это прозвище с детских Валиных лет к отцу прилипло. Так его все и называют в этом доме, за глаза и в глаза. Немного за отца обидно. Сходу, еще даже не войдя в дом, Валя объяснила, почему с отцом особо не церемонятся: он Люде образования не дал, у неё только техникум, и вообще ужимал её… «Ничего себе рассуждают, – думаю, – а мне-то чего отец дал?» – однако молчу на этот счет. Рада за себя: мне на самом деле дано было очень много – вся Бабушкина огромная любовь! Вся её выдержка, стойкость, преданность семье, её благородство стали мне самой твердой опорой в жизни.
А между тем в дверях дома появилась Мадонна в ночной сорочке. Красивая, будто с иконы сошла, с невинным взглядом карих глаз и с белокурым в распашонках младенцем…
– Зачем вышла?! Снова уши Эдьке простудишь! – напустились на нее сестрицы, – идите скорей на свое место!
Их место – широченная койка с горой перин, одеял, подушек и кучей простыней, пеленок и распашонок. Впрочем, пеленки и распашонки вперемешку с женским бельем и одеждой валяются еще и в разных углах большой и невероятно захламленной комнаты, в которой четыре окна, и все занавешены так, «чтобы свет не раздражал младенца и мухи бы не летали». Вика (мадонна), тоже моя сестренка, обрадовалась нам, с ногами уселась в постель, сунула грудь запищавшему было крошечному человечку, который, как сказали сестры, зверем орал всю ночь и который без конца марает пеленки. В двух других комнатках раскардаш не меньший и гул потревоженных мух. Из шока нас вывел отец. Он принес полную сумку продуктов.
– Идите в мою комнатку, там хорошо, – предложил нам с Ивой и отвел в просторный дощатый чулан с двумя малюсенькими окошками. В чулане пахло чабрецом сквозь какую-то химию (отец недавно мух травил и клопов). Манил поваляться застланный лоскутным одеялом широченный топчан. – Если понравится, здесь и будьте! – сказал.
Через минут пять нас «проведать» пришла Валя и радостно сообщила, что у них аврал и всех свистать на палубу: генеральная уборка! Но что нас это не касается. Мы, однако, тоже включились.
Когда приехали Бабичка Ружена с Франтишеком, всё было вполне прилично. На столе – огромный астраханский арбуз, на сковородке шипело мясо. В кастрюле – молодая картошка, запаренная с укропом. Мы все насладились едой, только Франтишек не был вполне доволен: попросил пива, а его здесь нет. А квас ему явно не по вкусу.
В рыбачьем поселке Самолва
Мы – отец, Иво, Лена и я – отправляемся на Чудское озеро катером Псков – Тарту. Билет берём до рыбачьего поселка Самолва. А Бабичка с пузатым Франтиком поедут на «Шкоде» берегом. Дорогу им отец показал на местной карте.
Псковский кремль, вид от реки Великой.
Пароход идет сначала по реке Великой. От середины реки Псков с его церквами и чудной красоты Псковским Соборным храмом глядится великолепно. А потом река Великая расширилась, став уже озером Псковским. Идем поближе к эстонскому берегу, крутому и лесистому. А противоположный почти не виден. На остановках вбегают на палубу разгоряченные люди с мешками и сумками, устремляясь к небольшому корабельному буфету, сплошь забитому хлебом. Торопливо кидают в свою тару ароматные буханки и проталкиваются к выходу.
Наконец эстонский берег тоже отступает, и вокруг только вода. Темно-синяя вдали и сероватая под нами. Редкие безлюдные островки с вышками маяков. Один из таких островков уже перед Самолвой, совсем крошечный, отлогий и тоже с маяком. «Это и есть Вороний камень (так остров называется), где мы все будем жить в домике маячника», – сообщает отец. Напротив Вороньего камня – тоже островок, но еще меньше и вовсе необитаем.
«А видите, – говорит отец, – какая чернота меж этими островками. И белые гребешки волн. Здесь глубина-а! И течение. В этом месте и происходила на Чудском озере битва – побоище, где князь псковский Александр Невский победил. Лед у Вороньего камня, течением проточенный, легко проломился под тяжелыми немецкими рыцарями».
Пароходик меж тем вошел в широкую горловину залива, который переходит в устье небольшой, но полноводной речки Самолвы, где и находится рыбачий поселок. Рыбачьи пароходики, лодки, баржи со снастями и бочками. Запах рыбы – свежей, копченой, тухлой мешается с запахом дегтя и тины. Наконец пришвартовались к вытянутому поперек фарватера открытому причалу, где уже толпится народ с мешками и сумками. Нас чуть не сшибли. Прямо супротив отчаянно мчатся в буфет за хлебом…
До самого поселка идем лодкой по узкой, но полноводной речке. Подплываем чуть ли не к самому дому, выходящему почернелыми деревянными воротами на улицу. Дом, как и всё вокруг, бревенчатый, отделанный изнутри выкрашенными в светло-желтый цвет досками. Полы в комнатах и на крылечке выскоблены – вымыты аж добела, сплошь устланы ковриками и дорожками из лоскутов и мешковины. И такие же выбеленные, под рядном, лавки вдоль стен и стол в углу, где под самым потолком божница, украшенная белым с кружевами полотенцем. Будто хозяйка в доме, печь с лежанкой, занавешенной (видимо на летнее время) выбеленной и цветасто расшитой мешковиной. А в сенцах керосином пахнет и керогаз, и кастрюльки. Тут, видать, и готовят. Спросить не у кого. Дом открыт, а нет никого. Скоро придут, раз открыто. Но соседи, парень молодой и бабушка, хлопотавшая во дворе, говорят, что Михаил, папин друг – рыбак, может и завтра возвернуться, что у них избы завсегда вот эдак, замков не вешают. И еще старушка с ужасно изморщиненными руками и живым, наверное, молодая еще, лицом убеждает, чтобы мы, коль в гости приехали, то и брали б всё, что найдем и ели бы…
Когда Миша (отцов ровесник) пришел, выяснилось, что дебелая старушка соседская – мама его и что ей уже больше ста лет, а точнее, сто второй пошел. Жизнь была трудной, в работе сызмальства. Поднимала младших сестренок и братьев. А сама вышла замуж в тридцать восемь лет. Восьмерых детей родила, пятерых вырастила. Миша, угластый и строго-спокойный старик – один из младших. Баба Дуся, так зовут старую, но совсем не ветхую маму деда Миши, принесла молочка. Прослышала, что издалека мы, и пришла глянуть. Она за всю жизнь так и не была нигде, кроме озера Чудского да родной Самолвы. Это удивляло больше всего:
– Сто лет – и в этакой дыре! – невольно вырвалось у меня.
– Для кого дыра, а для нее Божий свет! А ты погляди, как здесь красиво. Я и сам чуть сюда не пришвартовался, раздолье тут, река, озеро, луга, леса ягодные. И люди не пуганные: здесь ведь кругом скиты и болота непроходимые, шпане да законникам делать нечего…
Наутро мы с Ивой идем в местный магазин – сельпо. Он один на всей изъезженной в пыль площади – центре поселка. Зато два отдела в нем: промтоварный, под заржавленным замком, и продовольственный, в котором есть соленая, вяленая, копченая рыба, водка, конфеты, пряники и пшено. И целая очередь людей, в основном подростки. Люди разговаривают как промеж себя, так и с продавщицей на чисто матерном языке. Меня поразило, что и дети тоже, и продавщица… Мы среди них как немые стоим: как же с продавщицей-то объясняться? А она, как только наша очередь подошла, улыбнулась нам и с веселой лукавинкой на обычном русском спросила, чего желаем купить…
К обеду приехали наши. Намучились на машине. Франтишек таких дорог не видывал. Решил, что уж во Псков и Москву обратно не поедут, а как покороче, прямиком, через Польшу в Чехию. А пока поставили машину к деду Мише во двор, плащ-палаткой да снастями хозяйскими прикрыли и подались на маяк, на Вороний камень. Миша, он и есть маячник, нас переправил туда на своей моторной лодке.
На островке по-хозяйски открыл нам чисто заметенную деревяннуя избу, показал, где лежат матрасы с подушками (одеяла, простыни свои), потом проводил нас по узенькой тропочке в густо заросший лопухами дощатый сортир с парусной крышей, показал место возле крыльца, где в камушках можно ставить таганок, и где в глубине острова выстроена глиняная коптильня для рыбы. На маяке есть две рыбачьих лодки с веслами, крепко цепями привязанные к бетонным столбикам крохотного причала. Наконец, оставив нам с четверть огромной наволочки пшена, два ведерка свежих огурцов и маяк, дед Миша, радостный, отчалил.
Мы остались на маяке полными хозяевами.
Остров Вороний камень на Чудском озере вблизи пристани рыбачьего посёлка Самолва.
Жизнь на маяке
Вот уже неделю живём средь этой необычной красоты. Вода – серебристо-перламутровая, словно чешуя огромной рыбы с утра, зеленовато-синяя с белыми гребешками волн в дневные часы и успокоенная до зеркальной глади золотисто-розовая по вечерам. В такие часы особенно ловится рыба.
Мы уже не едим обычную уху, а только двойную, даже тройную. Мелочь бросаем обратно, чтобы подросла. Хватит с нас и крупной. Иво с Франтишеком хлопочут у коптильни, мы с Леной и Маминкой готовим ужин. Уха уже не лезет. Хочется чего-то кисленького, сладенького… Только не рыбы. Каждый день я купаюсь. Вода прохладная, очень взбадривает.
И всё же скучновато. Вечером хотелось бы повеселиться, потанцевать, а мы даже разговаривать не можем как люди, только шепотком, чтобы Франтишека не разбудить, который заваливается всегда спозаранку и храпит, а по утрам почти всегда жалуется, что мало спал.
А уже первое августа – мой День рождения.
Иво поздравляет меня букетом чудесных островных цветов, розовых с голубым. Потом я на правах именинницы беру лодку, ту, что полегче, и гребу через журчащую (сильное течение) воду к маленькому необитаемому острову, что напротив маяка. У самого острова тихая бухточка, где вода зачарованно отражает небо и отлогие, поросшие высокой травой с цветами и редким низкорослым ивняком берега.
На одном из кустов, который оголенным суком торчит из воды, видится дивная птица. Боясь испугать, держусь от нее подальше. Она будто застыла, так и сидит, выпростав одно крыло, вот-вот улетит. Я тихонечко, чтобы не плескануть веслом, приближаюсь к ней. Она всё сидит. Наконец я поняла, что эта птица – дерево, чудо, обточенное водой, подаренное мне природой (ко дню рождения).
А вечером снова вздохи животастого Франтишека, Ивиного отчима: комары не дают уснуть… К тому же он сильно затосковал без пива.
Так что нашему блаженному пребыванию на маяке скоро, наверное, придет конец.
Прохладным утром 11 августа мы все покинули маяк. Дед Миша доставил нас прямо к причалу, где уже толпились жители Самолвы, ожидая катер, идущий из Тарту в Псков. На этот раз вместе с Франтиком поедет Иво, а Бабичка с нами на катере.
Дорогой штормило до тошноты и ломоты костей. Шел косой дождик. Палубу то и дело окатывало волной. И снова на всех причалах атаковали наш кораблик люди с большими сумками. На этот раз в буфете везли колбасу и конфеты. Ужасная спешка: успеть бы взять и сойти. Одна женщина, эстонка, не успела. Умоляла капитана не отчаливать, у нее грудной ребенок остался там, она же на несколько минут отскочила… Стоявшие на нижней палубе мужики угрюмо молчали, а полоска воды, отделявшая катер от лесистого берега, увеличивалась. Мне ужасно жаль было женщину, даже голова разболелась. Отец пошел к морячкам поговорить. Но так и вернулся ни с чем. Низ-зя. Женщина до самого следующего причала тихонько подвывала. Впрочем, как сказали отцу, по суше ей всего четыре километра добираться, и автобус ходит…
Наконец остановка, а меня вдруг стало знобить, даже трясти. И всё виделась эта плачущая женщина. Отец укутал меня одеялом, прижал к себе. Муть дождя, качка… Домой приехали на такси. Ноги не сдвинуть, так отяжелели. Отец уложил в постель, принёс чаю, лимончик, сказал, что сильный жар.
На третий день температура спала, но из носа хлестала кровь. Никак не хотела уняться. Перепуганные лица отца и его жены Веры Григорьевны, любопытствующая хорошенькая мордашка сестренки Вали и озабоченный Иво. Маму свою с Франтиком он уже проводил. Сказали, что я бредила, что вызывали ко мне врача и хотели было везти меня в больницу… Однако температура спала, и оставили дома.
Ревматическая атака и диссертация
Уже недели две мы в Дубровицах. Лена в школу пошла. А я – дома: наша Дубровицкая врач, осанистая, интересная лицом Валентина Ивановна, определила у меня ревматическую атаку. Предписала уколы пенициллина, аспирин и строгий постельный режим. По вечерам ознобы и температура небольшая, которую в амбулатории назвали субфебрильной. В сердце шумы, РОЭ повышенная…
Диссертацию дописываю лежа в постели и раз в десять дней хожу к врачу.
В амбулатории всегда народищу. Валентина Ивановна принимает подолгу, особенно своих знакомых. А у нее их – все Дубровицы и деревни окрестные. У меня все без улучшения. «Вот так же и Тамара (называет фамилию), – говорит Валентина Ивановна, обращаясь к сестре, – ходила, ходила… Тоже с ревмокардитом. Больше года. Температура всё субфебрильная была. Так и умерла…» У меня сердце аж в пятки ушло при этих словах.
«Я не умру! Я не умру!» – вырвалось у меня. «Конечно, нет, конечно, нет», – испуганно заворковали сразу обе. Однако на душе тяжело: «Для чего вся эта диссертация?»
Решила ходить через силу, чтоб уж или пан, или пропал. И одолела. Сначала температура нормальной стала, потом РОЭ. Выписалась.
И вот иду в институт. На лестнице меня все обгоняют и все очень довольны, что обгоняют. Томмэ сияет. Он рядом со мною, вернее, мимо меня, словно молодой кузнечик. «Берите пример с меня!» – радостно говорит мне.
Я несу ему свою диссертацию. Со списком литературы, с приложениями почти двести страниц. Торжественно вручаю рукопись. Спрашиваю, когда зайти. «Через недельку», – отвечает золотой мой шеф. За эту скорость его особенно любят аспиранты: другие месяцами держат.
Томмэ диссертацию хвалил, исправив только введение: добавил о ведущей роли нашей Коммунистической партии. А Шура Подвигайло, секретарша его, мне сообщила (на ушко), что шеф меня хочет оставить в отделе, но что Махаев против. «Однако если чего хочет Михаил Федорович, то и будет».
У Букина с диссертацией
Позвонила Букину, и он пригласил приходить с диссертацией прямо к нему домой по адресу: Ленинский проспект, 13. И вот я гостем у Василия Николаевича и жены его Ксении Леонидовны. Меня поразила их прихожая: шире и, кажется, длиннее, чем наша вся комнатка в общежитии. А в комнатке нашей ведь не только мы втроем, но и гости приезжие помещаются. Из прихожей двери в столовую, где, будто в ожидании гостей, расставлен в длину (человек на двенадцать) массивный стол и с десяток высокоспинных тяжелых стульев. Несмотря на большие размеры стола комната казалась просторной, даже пустующей, хотя по углам стояли какие-то этажерки и шкафчики с посудой. Посреди пустого пространства комнаты на паркетном полу валяется трехколесный велосипед. «Это внука», – говорит Ксения Леонидовна, весьма интеллигентного вида седенькая старушка, наверное, когда-то красивая, с чуть навыкате белесыми глазами на блеклом без бровей лице.
В прежние годы занималась наукой – биохимик и первая помощница Букина. Поэтому смотрю и на нее как на божество. И она мне вдруг улыбнулась, враз помолодев лет на двадцать, и отвела в кабинет Букина (дверь прямо из столовой), где жили Василий Николаевич – на узкой, но массивной тахте и большущая собака овчарка – на тахте, вполовину короче хозяйской. Собака чуток, будто раздумывая о чем-то, поурчала, потом тявкнула, зевнула и доверчиво положила мне свою голову на колени, после чего я почувствовала себя здесь невероятно уютно.
Букин, не вылезая из халата, сел за широченный письменный стол, где моя диссертация среди объемистых рукописей могла бы и затеряться, мне указал на стул рядышком. Сначала полез в самый конец, прочел выводы. Хмыкнул, ничего не сказав, и стал смотреть основную часть, таблицы и схемы. Опыты мои он знал (цитировал даже в своих докладах), так что прошелся быстро. Потом принялся за введение и литобзор. Тут и началось. Даже не думала, что старик может орать, да как! Замечания пошли с самой первой страницы, где Томмэ вообще ничего не тронул, сказав, что о роли партии после его замечания и внесённых им дополнений написано «в удачных выражениях».
«На черта здесь вообще о партии писать? У вас диссертация о витамине В
. Это витамин, понимаете, ему партия наша до… А у вас: наша партия постановила… Вы-то хоть партийная сама?» – среди ора спросил Букин. «Не-ет», – проблеяла я, ужимаясь к спинке стула. Взгляд Василь Николаича потеплел. «Ладно, – сказал он, – раз уж это принято в вашем институте, оставим КПСС, но только в одной фразе, вот так», – и он быстро, перечеркав полстраницы, оставил всего несколько слов, моих же, которые сами собой выстроились в единственное предложение, в котором слово КПСС не было дифирамбом, а «работало». Это было только началом. Букин взрывался ором каждый раз, как натыкался на заимствованное у иностранцев слово или на громоздкий, заковыристый (казавшийся мне «научным») оборот. «Наделайте из этой кучи слов несколько ясных, коротких предложений, чтобы человек не блуждал в поисках истины. Читатель должен понимать, что читает, не спотыкаться об отдельные слова. Поэтому их должно быть как можно меньше. Как у Пушкина. Читаете и видите всё. С его стихов хоть рисуй. А слова, будто и не его, а ваши, вы сами его словами думать начинаете… А? Правильно?» – Василь Николаевич довольно хмыкнул, подкачал в ноздри себе из маленького баллончика лекарства какого-то (он весь, говорили мне, на лекарствах и держится) и быстро распатронил мою «словоблудную», в полстраницы фразу, оставив лишь начало ее и хвостик.