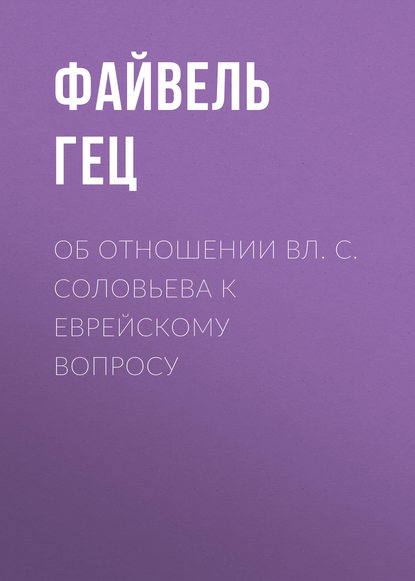 Полная версия
Полная версияОб отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу
Цитируя далее из письма знаменитого ученого и публициста Б. Н. Чичерина следующие строки: «В практическом отношении могу сказать по собственному опыту, что, управляя в течение двадцати лет двумя имениями, одним в Тамбовской губ‹ернии›, где нет ни одного еврея, другим в Полтавской, где все ими полно, я вижу, что в последней крестьяне денежнее и состоятельнее, да и условия лучше», – Вл. С. замечает: «Это не мнение публициста, побуждаемого текущими событиями, впечатлениями минуты, а продуманное и окончательное убеждение человека, знающего дело со всех сторон, много и хорошо потрудившегося на разных поприщах, притом человека вполне самостоятельного и по характеру, и по положению, стоящего близко к народной жизни и далеко от искусственных агитаций и интриг, человека, заинтересованного только правдою».
Говоря об обвинении евреев в эксплуатации сельского населения, Вл. С. замечает: «Разве своекорыстное угнетение одного класса другим не есть общее правило социальной жизни во всей Европе? Нуждающийся крестьянин идет к евреям, потому что свои ему не помогают. И если евреи, помогая крестьянину, эксплуатируют его, то они это делают не потому, что они евреи, а потому, что они – мастера денежного дела, которое все основано на эксплуатации одних другими.
Беда не в евреях и не в деньгах, а в господстве, всевластии денег, а это всевластие денег создано не евреями. Не евреи поставили целью всей экономической деятельности наживу и обогащение, не евреи отделили экономическую область от религиозно-нравственной. Просвещенная Европа установила в остальной экономии безбожные и бесчеловечные принципы, а потом пеняет на евреев за то, что они следуют этим принципам. Дела евреев не хуже наших дел и не нам обвинять их. Разве только в том они виноваты, что остаются евреями, сохраняют свое обособление. Но покажите же им видимое и осязательное христианство, чтобы им было к чему пристать. Они народ дела, – покажите им христианское дело…»
Политические обвинения евреев в одно и то же время то в космополитизме, то в узком национализме, противоречащие друг другу и взаимно друг друга упраздняющие, также обратили на себя внимание Вл. С., который с замечательною меткостью указывает на их внутреннюю противоречивость и несостоятельность.
«Замечательно, впрочем, что евреев обыкновенно обвиняют зараз и в узком национализме и в космополитизме. Дело в том, что самая национальная идея у евреев имеет известное универсальное значение, которое возвышено еще библейскому Аврааму… и если евреи не хотят признать в христианстве осуществление этой всемирной миссии Израиля, то ведь и мы по совести не можем утверждать, чтобы она уже была осуществлена у нас… Где же сила христианского универсализма, который обыкновенно противопоставляют узкому народному эгоизму евреев?» ‹…›
«Не забавны ли упреки в космополитизме, обращенные к той единственной нации, которая от незапамятной древности сквозь жесточайшие испытания сохранила всю свою национальную самобытность, – сохранила до такой степени, что те, кто упрекает эту нацию в космополитизме, вынуждены бывают соединять этот упрек с прямо противоположным и, как было уже замечено, обвинять космополитов в узком национальном обособлении. И этот последний упрек столь же странен, как и первый. Ибо где был народ более восприимчивый и открытый чужим влияниям, чем евреи, которые изучивши внутреннюю духовную сущность своей народности, никогда не дорожили ее внешними признаками и даже язык свой неоднократно меняли: возвратившись из Вавилона, они говорили по-халдейски, в Александрии стали говорить по-гречески, в Багдаде и Кордове – по-арабски, а ныне повсюду говорят на полунемецком жаргоне и притом всегда и везде принимали личные имена и фамильные прозвища от чужих и иноверных народов». ‹…›
«Консерваторы разных стран и исповеданий единодушно упрекают евреев в особенной склонности к либерализму и признают их даже родоначальниками и главными двигателями современного либерального движения в Европе. Если так, то нам, с своей стороны, остается только пожалеть, что евреи до сих пор так плохо исполняли свое дело в той стране, где истинно либеральные принципы и порядки были бы особенно нужны для самих «сынов израилевых» и для «народа земли». Замечательно, впрочем, что свои идеи свободы и социальной правды евреи выводят, и не без основания, из самой Моисеевой Торы. При такой почтенной древности прогрессивные идеи евреев можно с одинаковым правом считать консервативными и даже ретроградными, так что любая из партий, на которые распадается цивилизованное человечество, может найти себе сочувственные элементы в еврействе, которое, однако, свободно от непримиримого противоречия между всеми этими элементами, но подчиняет их всех своему религиозно-национальному единству».
Разобрав, между прочим, обвинения Талмуда в поддержании узконациональной замкнутости евреев, Вл. С. замечает в заключение:
«Сохраненное, благодаря Талмуду, в своем религиозно-национальном обособлении, еврейство еще не утратило смысла своего существования. Оно стоит доселе живым укором христианскому миру. Оно не спорит с нами об отвлеченных истинах, а обращается к нам с требованием правды и верности: или отказаться от христианства, или приняться решительно за его осуществление в жизни. Беда для нас не в излишнем действии Талмуда, а в недостаточном действии Евангелия. От нас самих, а не от евреев, зависит желанное решение еврейского вопроса. Заставить евреев отказаться от законов Талмуда мы не можем, но применить к самому еврейству евангельские заповеди всегда в нашей власти»[14].
Националисты-патриоты новейшей формации, как это ни странно и даже курьезно, ставят евреям в вину их умственные дарования и какое-то культурное преобладание, которое они приписывают еврейству. Эти патриоты своего отечества утверждают: евреи-де выделяются природными умственными способностями и обусловленной их историческою судьбою изощренною изворотливостью, которые, мол, при равных внешних условиях соперничества на культурно-экономической арене, были бы опасными конкурентами для сравнительно еще отсталого коренного населения. Поэтому salus publica, или, вернее, национальный эгоизм последнего, требует, по крайней мере до поры до времени, чувствительным правовым ограничением стеснять конкуренцию евреев и всеми средствами задерживать их прогрессивное движение. Увлекаясь подобными соображениями, патриоты известного пошиба не останавливаются и перед бойкотированием евреев во всех областях человеческой деятельности, совершенно забывая не только о заветах гуманности и человеколюбия, но игнорируя даже и самые основные начала права и справедливости. Они знать не желают, что помимо того, что воображаемое культурное преобладание еврейства далеко еще не составляет доказанного факта, оно во всяком случае никак не может служить своего рода «corpus delicti для лишения неотъемлемых прав человека и гражданина многомиллионной народности, обремененной всеми государственными повинностями наравне с остальным населением страны и за которой не числится никаких иных преступлений, кроме разве естественного и вполне законного стремления развить свои силы и способности и пользоваться ими в дозволенных всем пределах; они в расчет не берут и того, что данная народность, принося пользу себе самой, тем самым умножая внутреннее богатство страны и увеличивая ее славу, оказывается, помимо своей воли, благотворной всему отечеству. Ослепленные псевдопатриотизмом самого узкого национального свойства, они не принимают в соображение, что правовое ограничение целой народности, входящей в состав государства, искусственно атрофируя ее способность, уродуя, калеча ее, делает ее чужеядным паразитным членом государственного организма, долженствующим отозваться вредно на развитии и преуспеянии сего последнего. Против такого вырождения национальной идеи, долженствующей служить высшим культурным интересам всего человечества, против такого злоупотребления патриотизмом, который по своей идее вовсе не идет в разрез с вселенскими стремлениями верно понятого космополитизма, а наоборот, должен идти с ним рука об руку против подобного извращения истины и опозорения высших идеалов, лелеемых лучшими представителями культурных народов, начиная с древних еврейских пророков, восстал Вл. С. всем своим духовно-нравственным существом. Когда Вл. С. говорит о вожделениях национального эгоизма и ложно понятого патриотизма, его моральное негодование, возвышенная религиозная ревность и возмущение его истинного пламенного патриотизма не знают пределов. Со всей непреодолимой силой своего могучего и блестящего ума, во всеоружии своих огромных и разносторонних научных познаний Вл. С. обрушивается на все доводы столько же ложного, сколько зловредного, противохристианского направления национализма, которое, впрочем, касается далеко не одних только евреев в государстве, а охватывает жизненные интересы всех инородцев и иноверцев и грозит серьезнейшими осложнениями международным отношениям России, а главное – весьма опасно для существования и будущности самого русского народа, в качестве культурного народа с неоспоримыми крупными задатками великой исторической миссии. Не имея возможности и надобности передавать хотя бы в сжатом извлечении все то, что Вл. С. высказал по этому поводу в своем известном сочинении «Национальный вопрос в России» и в более кристаллизованном виде в своем капитальном труде «Оправдание добра», – я считаю, однако же, не лишним указать на нижеследующие относящиеся сюда основные тезисы.
«Здравая политика, – говорит Вл. С., – есть лишь искусство наилучшим образом осуществлять нравственные цели в делах народных и международных. Поэтому руководящим мотивом политики должны быть не корысть и не самолюбие национальное, а долг и обязанность. Нравственный долг требует от народа прежде всего, чтобы он отрекся от этого национального эгоизма, преодолел свою природную ограниченность, вышел из своего обособления. Народ должен признать себя тем, что он есть поистине, т. е. лишь частью вселенского целого; он должен признать свою солидарность со всеми другими живыми частями этого целого, – солидарность в высших всечеловеческих интересах, и служить не себе, а этим интересам в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным качествам. Этому исполнению нашего нравственного долга препятствует лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, т. е. желает ему зла и гибели. Истинная любовь к народу желает ему действительного блага, которое достигается только исполнением нравственного закона путем самоотречения… Судьба людей и нации, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы знаем наверное: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит силе права, если она не возжелает искренне и крепко духовной свободы и истины, она никогда не может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних». «Доведенный до крайнего напряжения национализм губит впавший в него народ, делая его врагом человечества, которое всегда окажется сильнее отдельного народа. Христианство, упраздняя национализм, спасает народы, ибо сверхнародное не есть безнародное. И здесь имеет силу слово Божие: только тот, кто положит душу свою, сохранит ее, а кто бережет душу свою, тот потеряет ее… Отвергаясь исключительного национализма, он (народ) не только не теряет своей самостоятельной жизни, но тут только и получает свою настоящую жизненную задачу. Возведенный на эту ступень, патриотизм является не противоречием, а полнотою личной нравственности. Лучшие стремления человеческой души, высшие веления христианской совести прилагаются тогда к вопросам и делам политическим, а не противополагаются им. Не должно себя обманывать: бесчеловечие в международных и общественных отношениях, политика людоедства погубит в конце концов и личную, и семейную нравственность, что отчасти уже и видно во всем христианском мире. Человек все-таки есть существо логичное и не может долго выносить чудовищного раздвоения между правилами личной и политической деятельности».
Эти тезисы, составляющие основы политических убеждений Вл. С., развитые и обоснованные им в его вышеупомянутых сочинениях, выступают с особенною силою в его отрывке из статьи «Грехи России», имеющемся у меня в рукописи, в котором встречаются следующие слова: «Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая нравственные требования. И пока в России из фальшивых политических соображений… миллионы русских подданных будут насильственно обособляемы от прочего народа и подвергаемы новому виду крепостного права, пока система уголовных кар будет тяготеть над религиозным убеждением… до тех пор Россия во всех своих делах останется нравственно связанною, духовно парализованною…»
Но Вл. С. твердо верил в великую будущность русского народа, в его вселенскую миссию и поэтому он твердо надеялся на мирное и удовлетворительное решение еврейского вопроса в нашем отечестве и на лучшую светлую будущность евреев в России. Вот что он мне писал по этому поводу: «Я вполне понимаю и разделяю вашу жалость к частным страданиям ваших единоверцев в настоящем; но я уверен, любезный друг, что к этому чувству вы не присоединяете никакого опасения за будущие судьбы вашего народа. Вы знаете, кто против него и кто за него; вы знаете также его историю. И неужели возможно хоть на мгновение вообразить, что после всей этой славы и чудес, после стольких подвигов духа и пережитых страданий, после всей этой удивительной сорокавековой жизни Израиля ему следует бояться каких-то антисемитов? Если бы эта злобная и нечистая агитация возбуждала во мне какой-нибудь страх, то, конечно, не за евреев, а за Россию. Но, признаюсь, и такого страха я не чувствую. Увлечение мнимым «общественным мнением» есть явление скоропреходящее, и в конце концов русский народ – себе не враг; он достаточно умен, чтобы не прать против рожна и не спорить с Божьими судьбами. И недаром Провидение водворило в нашем отечестве самую большую и самую крепкую часть еврейства» (Москва, 5 марта 1891 г.). Этим выражением твердого упования на великую будущность русского народа и в связи с ней на лучшую будущность еврейства в России, каковое упование, хотя он подчас и впадал в уныние, никогда ни окончательно, ни даже надолго не оставляло нашего гениального мыслителя и вдохновенного, дальновидного публициста, – я заканчиваю настоящий очерк.
В заключение считаю нужным присовокупить, что еврейство не только в России, но и на всем земном шаре умело и умеет ценить по достоинству беспримерно гуманное и душу возвышающее заступничество и горячую любовь к нему незабвенного, идеального человека и христианина, Вл. С. Соловьева. Еще при жизни, в знак, благоговейной признательности и глубочайшего почитания, Вл. С. был избран в почетные члены «Общества для распространения просвещения между евреями в России». Скорбная весть о его кончине с быстротою молнии облетела весь еврейский мир. Все еврейские издания во всех странах, населенных евреями, принесли более или менее обстоятельные очерки о характере жизни и деятельности великого усопшего защитника и друга еврейства. Во многих синагогах, при огромном стечении публики, были отслужены панихиды по безвременно скончавшемся; в многочисленных собраниях, в главных еврейских центрах, читались рефераты о его светлой личности и его славных деяниях. Между прочим комитет «Общества для распространения просвещения между евреями в России» созвал 12 ноября минувшего года общее собрание, привлекшее многочисленную публику, и по отслужении панихиды по почетном члене общества Вл. С., во время которой раввином д-ром Драбкиным произнесено было прочувствованное слово, памяти и заслугам почившего были посвящены речи его друга доцента Н. И. Бакста и публициста М. И. Кулишера, а председатель общества, барон Г. О. Гинцбург, сообщил о состоявшемся постановлении комитета учредить в память Вл. С. Соловьева 4 стипендии в С.-Петербургских училищах общества и поместить портрет покойного в состоящей при обществе библиотеке, каковое постановление встречено было собравшимися с живейшим сочувствием. Подобное же увековечение имени Вл. С., как слышно, предпринимается еще и другими еврейскими обществами. Вообще можно безошибочно утверждать, что со смерти Лессинга не было христианского ученого и литературного деятеля, который пользовался бы таким почетным обаянием, такой широкой популярностью и такой искренней любовью среди еврейства, как Вл. С. Соловьев, и можно предсказать, что и в будущем среди благороднейших христианских защитников еврейства рядом с именами Лессинга, Абе Грегоара, Мирабо и Маколея будет благоговейно с любовью и признательностью упоминаться благодарным еврейским народом славное имя Вл. С. Соловьева.
Сноски
1
Восход. 1900. № 63 и 79.
2
‹Соловьев В. С.› Талмуд и новейшая полемическая литература о нем // Русск‹ая› мысль. 1886. № 8. С. 126.
3
Там же. С. 133.
4
Там же. С. 144.
5
‹Соловьев В. С.› Еврейство и христианский вопрос. М., 1884. С. 10.
6
Там же. С. 13.
7
Там же. С. 6.
8
Исключительно еврейскому вопросу посвящены были только: брошюра «Еврейство – христианский вопрос» (М., 1884), переработанная из лекции о всемирно-историческом значении иудейства, читанной им в Петербургском университете и на Высших женских курсах; статья «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии» (Русск‹ая› мысль. 1886. № 8), рецензия книжки С. Я. Диминского «Евреи, их вероучение и нравоучение» (Северн‹ый› вестн‹ик›. 1891. № 8) и, наконец, обстоятельное предисловие к моей книжке по еврейскому вопросу, которая по не зависящим от меня причинам, не могла появиться в свете. Мимоходом Вл. С. касался еврейского вопроса в своем сочинении «Национальный вопрос».
9
‹Соловьев В. С.› Еврейство и христианский вопрос. М., 1884. С. 7–8.
10
Русск‹ая› мысль. 1886. № 8. С. 127.
11
Там же. С. 133.
12
Кстати об одном факте, иллюстрирующем действие этого принципа в жизни, Вл. С. мне сообщает в письме от 6 июля 1886 г. из Загреба: «Чтобы написать вам хоть что-нибудь приятное, сообщу, что на австрийской границе я имел случай убедиться собственным опытом в действии принципа «Хилул га-шем» у евреев. А именно: один старик-еврей, разменивая мне русские деньги на австрийские через окно вагона, когда поезд вдруг тронулся, а он не доплатил мне несколько гульденов, прибежал пешком до следующей остановки поезда и принес остальные деньги, говоря, что не желал, чтобы я мог упрекать еврея в обмане».
13
Кстати, замечу мимоходом, что Вл. С. верно угадал настоящую причину избежания нашими антисемитами научного исследования в указанной области. По собранному маститым статистиком, экономистом и прославленным в Европе общественным деятелем г. Блиохом весьма богатому, крайне разнообразному сравнительно-статистическому материалу, который обратил на себя всеобщее внимание на последней Парижской всемирной выставке, – оказывается, что Катков в действительности знал, что говорил. Мои личные изыскания по этому вопросу, почерпнутые из официальных источников, также подтверждающие вышеприведенный отзыв Каткова, я опубликовал в «Недельн‹ой› хронике Восхода» в № 38, 39 и 40 за 1897 г., под заглавием «К вопросу об экономическом положении евреев».
14
Русск‹ая› мысль. 1886. № 8. С. 146.



