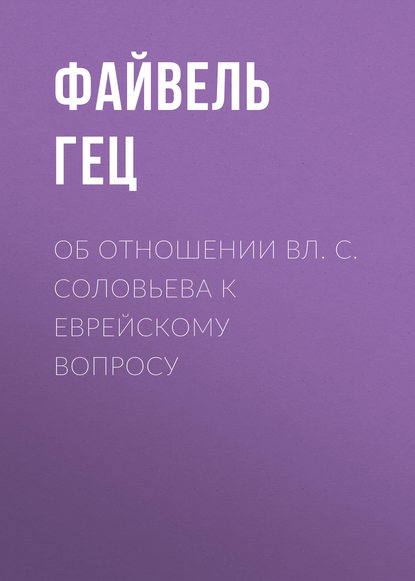 Полная версия
Полная версияОб отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу
Не могу обойти молчанием одной черты в характере еврейского народа, которая, быть может, вследствие того, что та же самая черта была в высшей степени свойственна самому Вл. С., приковывала к себе его внимание и представляла собою предмет его благоговейного удивления. Это необычайная смелость, самостоятельность мысли, которая, начиная с Авраама, всегда отличала еврейский народ. Вл. С., который еще юношей имел удивительное мужество выступить с самостоятельным идеальным религиозно-философским миросозерцанием, в эпоху расцвета позитивизма и даже крайнего материализма, и во всеуслышание проповедовать начала христианской политики, когда в образованном русском обществе господствовали как раз противоположные политические течения, – умел особенно ценить в еврействе его редкое мужество иметь свое мнение, шедшее почти всегда в разрез с мнениями окружающих, большею частью весьма враждебно к ним относившихся, несмотря на то, что в течение тысячи лет еврейство составляло ничтожное, беспомощное и беззащитное меньшинство; и мало того, что еврейство смело иметь свое мнение, оно неустрашимо несло это исключительное мнение напоказ, жило согласно с ним, воплощало и олицетворяло его в жизни и все это в такие времена, когда было весьма опасно мыслить не так, как все мыслят, молиться не так, как все молятся, говорить не так, как все говорят, одеваться иначе, чем все одеваются, когда такая упорная самостоятельность считалась непростительною дерзостью и грозила самыми печальными последствиями. Вл. С., который, по всему своему душевному укладу, дорожил выше всего на свете свободою совести и свободой слова, видел в еврействе бестрепетного борца за эти величайшие и идеальные блага, пред которыми он преклонялся. Когда Вл. С., бывало, заговорит со мною об этой характерной черте иудейства, он почти всегда прибавлял: «И этот народ еще упрекают в трусости!» «Первые христианские мученики, да еврейский народ – вот классические образцы бойцов за свободу совести, вот у кого нам следует учиться, как отстаивать свои убеждения. Жаль только, что современные интеллигентные евреи не всегда достойны своих предков и нередко обнаруживают совершенное равнодушие к истине и этим вредят обаянию своего народа». Словом, указанная еврейская черта, которая столь характерна была для самого Вл. С., известным образом роднила его с еврейством.
Прибавьте ко всему вышеизложенному в высшей степени развитое чувство справедливости, необычайно чуткую совесть, беспредельную доброту и любвеобильное сердце, – и вы получите ту почву, на которой росло и развивалось отношение Вл. С. к еврейскому вопросу.
Сам Вл. С. высказался о своем отношении к еврейскому вопросу приблизительно в следующих словах: «Меня одни величают иудофилом, другие укоряют в слепом пристрастии к еврейству. Благо, что не подозревают меня в подкупности еврейским золотом. Но в чем, хотел бы я знать, высказывается мое иудофильство или мое пристрастие к евреям? Разве я не признаю слабых сторон иудейства или разве я оправдываю последние? Обнаружил ли я когда-либо хоть малейшую склонность идеализировать еврейство? В действительности я настолько же далек от иудофильства, как и от иудофобства. Но я не могу в угоду дурному вкусу и плохой нравственности закрывать глаза, чтобы не видеть очевидных фактов, не хочу и не могу кривить душою и сделать, по примеру антисемитов, одних евреев ответственными за все грехи и несчастия, постигшие нас. Я не скрываю, что живо интересуюсь судьбою еврейского народа, но это потому, что она сама по себе в высшей степени интересна и поучительна во многих отношениях. Но иногда я заступаюсь за евреев? Да, только, к сожалению не так часто, как я бы хотел и должен был это делать в качестве христианина и славянина. (Как христианин я сознаю, что обязан иудейству величайшей благодарностью, ибо мой Спаситель был иудеем по плоти, иудеями же были пророки и апостолы, и краеугольный камень вселенской Церкви взят был в доме израилевом; а как славянин, я чувствую великую вину против еврейства и хотел бы искупить ее чем только могу.) Еврейский вопрос – в сущности вопрос правды и справедливости. В лице еврея попирается справедливость, потому что преследования, коим подвергают евреев, не имеют ни малейшего оправдания, ибо обвинения, возводимые антисемитами на них, не выдерживают самой снисходительной критики: они большею частью злоумышленная ложь».
II
О еврейском вопросе Вл. С. писал, собственно говоря, немного[8]. Но как во всем, к чему прикоснулся его мощный, самостоятельный и оригинальный ум, Вл. Сив литературе по еврейскому вопросу оставил неизгладимые следы. Он не только глубоко и всесторонне охватил еврейский вопрос, но и почти исчерпал его. Даже более: он упразднил его как таковой, т. е. как вопрос еврейский, ибо с неумолимой логической последовательностью, неопровержимо доказал, что лишение евреев многих неотъемлемых прав человека и гражданина равно как враждебное и презрительное отношение к ним со стороны общества не имеют никакого оправдания в самом еврействе, не вызывались и не вызываются и поныне особыми условиями, в еврействе лежащими, а коренятся вне его; поэтому Вл. С. совершенно основательно признал ненормальное положение еврейства в обществе и государстве не еврейским, а христианским вопросом. «Прошло уже десять лет, – пишет мне Вл. С. в письме от 5 марта 1891 г., – с тех пор, как «отец лжи» возбудил в нашем обществе антисемитическое движение. За это время мне приходилось несколько раз указывать (сначала с кафедры, а потом в духовной и светской печати) на ту несомненную истину, что еврейский вопрос есть прежде всего вопрос христианский, именно вопрос о том, насколько христианские общества, во всех своих отношениях к евреям, способны руководствоваться на деле началами евангельского учения, исповедуемого ими на словах. Я не стану повторять здесь моих рассуждений, которые не могут иметь никакого значения для антисемитов: кто проповедует огульную вражду к целому народу, тот тем самым показывает, что христианская точка зрения потеряла для него свою обязательность…» Эта мысль, которая в брошюре «Еврейство – христианский вопрос» повторяется и разъясняется более обстоятельно, есть то оригинальное, совершенно новое, что Вл. С. внес в литературу этого вопроса. Вл. С. и не попытался решить так или иначе «еврейский вопрос», как обыкновенно делали и делают друзья евреев и их заступники. Он предпочел с аргументами здравой логики и научными данными в руках доказать, что тут никакого вопроса нет или по крайней мере не там, где принято искать его. Чтобы доказать отсутствие каких-либо оснований, оправдывающих настоящее положение еврейства, он шаг за шагом рассматривает и разбивает все господствующие против евреев и их учений обвинения настолько убедительно, что их полная несостоятельность становится ясной каждому непредубежденному. В его аргументации рядом с философским бесстрастием и невозмутимостью выступают подчас моральное негодование, религиозная ревность и пламенный патриотизм и наряду с классически ясным изложением истины – беспощадное облечение неправды. Но всем этим далеко не исчерпывается неотразимая сила и чарующий блеск его полемики по еврейскому вопросу. В ней столько благородства мысли и сердечной теплоты, столько трогательной любви к человеку и столько задушевной жалости к обиженным судьбою, что пока еврейство будет гонимо своими исконными врагами-клеветниками, апология Вл. С. будет не только самой могучей и обаятельной защитою против гонителей еврейства, но и самым душу возвышающим утешением гонимых евреев. Неудивительно поэтому, что хотя Вл. С. и мало писал в защиту еврейства, он давно уже слыл столько же авторитетным, сколько и доблестным заступником за евреев, среди которых он уже давно пользовался самой широкой популярностью и искренней любовью.
Другое не менее отличительное и драгоценное преимущество еврейской апологии Вл. С. состоит в том, что хотя вся эта апология вместе взятая обнимает всего несколько десятков страниц, она тем не менее успела высказаться по всем обвинениям, возводимым на евреев, и по всем пунктам запутанного и многосложного еврейского вопроса настолько полно, ясно и определенно, что стоит лишь разложить этот вопрос на его составные элементы, распределить все юдофобские обвинения на известные категории и противопоставить каждой из них главнейшие моменты апологии Вл. С. в его подлинных выражениях, чтобы иметь вполне удовлетворительное представление об обаятельной мощи и убедительной силе его полемики по еврейскому вопросу. Такой прием я в данном случае считаю наиболее уместным уже потому, что он устраняет всякое подозрение в пристрастии и односторонности.
Этим приемом я воспользуюсь при изложении главной сути полемики Вл. С. по еврейскому вопросу.
Все обвинения против евреев и еврейства, пущенные в ход современными антисемитами, можно распределить на следующие категории:
а) Обвинения религиозные, а именно: евреи повинны в отвержении и распятии Христа; они поныне отвергают христианство, подкапываются под его основы и посему христианство с своей стороны не может терпеть еврейства, оно должно по возможности искоренить его и мстить евреям за распятие.
б) Обвинения этические, состоящие в том, что Талмуд, которого придерживается еврейство, содержит в себе зловредные в общественном отношении этические учения.
в) Обвинения этнические: евреи, мол, представляют собою низшую и порочную расу, недостойную быть уравненной в правах с остальным населением в стране.
г) Обвинения экономические: признается, что евреи, благодаря историческим причинам, выработавшим из них эксплуататоров, отличаются тлетворной экономической деятельностью.
д) Обвинения политические, заключающиеся в том, что евреи будто составляют чуждый, нерастворимый и нежелательный элемент в государстве, по утверждению одних – вследствие своей национальной обособленности, а по уверению других – как раз наоборот, вследствие своего прирожденного космополитизма и либерализма. И наконец.
е) Обвинения или, вернее, соображения национально-патриотические, – о которых речь еще впереди, – будто требующие правового ограничения евреев на всех поприщах борьбы за существование.
Против всех этих обвинений и соображений выступает Вл. С.
Начнем по порядку:
Религиозные обвинения против еврейства, по мнению Вл. С., не выдерживают с точки зрения христианства самой снисходительной критики. Развивая вышеупомянутый взгляд епископа Никанора о тесной связи между христианством и еврейством и о развитии религиозной идеи в человечестве, Вл. С. указывает на внутреннюю органическую связь между Ветхим и Новым Заветом и приходит к тому заключению, что «эти два завета не суть две различные религии, а только две ступени одной и той же Богочеловеческой религии. Религия эта начинается личным отношением между Богом и человеком в древнем завете Авраама и Моисея и утверждается теснейшим личным соединением Бога и человека в Новом Завете Иисуса Христа… Христианство таким образом никогда не отвергало иудейства и никак не может и не должно враждебно относиться к тому, дальнейшее развитие которого оно само составляет. «Но евреи отвергли Христа и предали Его суду римлян, которые распяли Его»». Против этого обвинения возражает Вл. С.: «И наверно, крик человеческой злобы не довольно силен, чтобы заглушить слово Божественного прощения: «Отче, отпусти им, не ведают бо что творят». Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгофы, состояла из иудеев; но иудеи же были и те три тысячи, а потом и пять тысяч человек, которые по проповеди апостола Петра крестились и составляли первоначальную христианскую Церковь. Иудеи были Анна и Каиафа, иудеи же Иосиф и Никодим. К одному и тому же народу принадлежали и Иуда, предавший Христа на распятие, и Петр, и Андрей, сами распятые за Христа. Иудей был Савл, жесточайший гонитель христиан, и иудеем из иудеев был Павел, гонимый за христианство и «паче всех потрудившийся» для него. И что больше и важнее всего, Он Сам, Богочеловек Христос по плоти и душе человеческой был чистейшим иудеем. Ввиду этого разительного факта не странно ли нам во имя Христа осуждать все иудейство, к которому неотъемлемо принадлежит и Сам Христос, не странно ли это особенно со стороны тех из нас, которые если и не отреклись прямо от Христа, то, во всяком случае, ничем не обнаруживают своей связи с Ним?
Если Христос не Бог, то иудеи не более виновны, чем эллины, убившие Сократа. Если же мы признаем Христа Богом, то и в иудеях должно признать народ Богорождающий. В смерти Иисуса вместе с иудеями повинны и римляне, но рождество Его принадлежит лишь Богу и Израилю. Евреи, говорят, всегдашние враги христианства; однако во главе антихристианского движения последних веков стоят не евреи, не семиты, а прирожденные христиане арийского племени. Отрицание же христианства и борьба против него со стороны некоторых мыслителей иудейского происхождения имеет и более честный, и более религиозный характер, чем со стороны писателей, вышедших из христианской среды. Лучше Спиноза, чем Вольтер, лучше Иосиф Сальвадор, чем Эрнест Ренан. Пренебрегать иудейством – безумно; браниться с иудеями – бесполезно; лучше понять иудейство, хотя это труднее»[9]. Прибавить что-либо к этим доводам вряд ли приходится, да и едва ли возможно.
Не менее убедительно и неоспоримо верно опровержение Вл. С. этических обвинений против иудейства. «Не раз, – говорит Вл. С., – приходилось нам читать и слышать такое мнение: «Еврейский вопрос мог бы быть легко разрешен, можно было бы совершенно примириться с евреями и дать им гражданскую и общественную полноправность, если бы только они отказались от Талмуда, питающего их фанатизм и обособленность и вернулись к чистой религии Моисеева закона, как ее исповедуют, например, караимы».
Представьте себе, что в какой-нибудь стране, где Православная Церковь не пользуется расположением правительства и большинства населения, положим, хоть в Австрии, раздались бы в обществе и печати такие речи: «Мы охотно примиримся с православными и не будем ограничивать их прав, пусть только они решительно откажутся от своих церковных правил и обычаев, от старого схоластического хлама, называемого «учением отцов Церкви», наконец, от таких памятников суеверия и фанатизма, как «жития святых»; пусть вернутся они к чистому евангелическому учению, как его исповедуют, например, геренгутеры или молокане»». Указав на те моменты, которые противники Православной Церкви могли бы найти в ее преданиях для оправдания подобного требования, Вл. С. замечает: «Впрочем, гораздо легче отделаться от устарелых преданий и законов, нежели от старой дурной привычки мерить все двумя разными мерами и находить для себя смягчающие, а для других одни отягчающие обстоятельства». Обещав затем держаться «высшего правила иудейско-христианской морали: относись к другому так, как желал бы, чтобы он к тебе относился, – Вл. С. переходит к оценке Талмуда и талмудического еврейства, оценке, которая по основательному знанию предмета, по строго объективному к нему отношению и по сжатости и наглядности изложения решительно не имеет себе равного в относящейся сюда литературе. Изложив вкратце сущность и содержание Талмуда и ход его развития, на преобладающую роль фарисеев в составлении Талмуда и на их родственные отношения к христианству Вл. С. утверждает что «Евангелие не подвергает безусловному осуждению самый принцип фарисейства вообще, а напротив, вполне признает его положительное содержание. В этом легко убедиться, если только вспомнить, какими словами начинается самая сильная проповедь Христова против фарисеев: «На Моисееве седалищи седоша книжницы и Фарисеи. Вся убо елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите, по делом же их не творите: глаголют бо и не творят». Таким образом, Евангелие, упрекая фарисеев прежде всего в том, что они не осуществляют своего учения на деле, тем самым оправдывает принцип фарисейства, состоявший именно в требовании дел закона. Христос не говорит: не нужно дел; напротив Он говорит: дела нужны, но вы их не делаете»[10]. Впрочем, сам Талмуд предостерегает против подобных ложных фарисеев, коих насчитывается семь категорий (Сота 226). Приведя затем изрядное количество талмудических изречений и притчей, чтобы «дать некоторое реальное представление о нравственном духе этого памятника» и разобрав основные принципы Талмуда, Вл. С. приходит к вышеприведенному заключению, «что между законничеством Талмуда и новозаветною нравственностью, основанною на вере и альтруизме, нет противоречия в принципе»[11].
Переходя затем к антисемитической полемике против Талмуда, Вл. С. говорит: «Возобновились старинные жалобы на то, что религиозный закон евреев, содержащийся в Талмуде, предписывает избранному народу ненавидеть всех иноверцев, в особенности христиан, и наносить им всякий вред. Не было бы поистине ничего удивительного, если бы в действительности в религиозных книгах евреев были такие предписания. Нужно ли припоминать все, что евреи претерпели от христианских народов в Средние века. Помимо безотчетных антипатий и предрассудков против еврейства, существуют еще до сих пор в некоторых, по крайней мере, христианских странах законы, налагающие заклятие на еврейскую религию, отделяющие евреев от остального населения непроницаемою стеною, как каких-то зачумленных.
Ввиду этого, если бы в еврейских религиозно-юридических кодексах содержались постановления соответственного духа по отношению к христианам, то это было бы только справедливо. Но находятся ли действительно у евреев подобные постановления? Благодаря новейшему антисемитическому движению, этот вопрос достаточно выяснился». Рассмотрев относящиеся сюда антисемитические обвинения по пунктам и указав на все «подложное, неверное и несообразное» в них, Вл. С. останавливается поближе на объяснении сути известных трех принципов, которыми, по его мнению, может гордиться еврейская этика, а именно: I) принцип «киддуш га-шем» – священия имени (Божия), («ad majorem dei gloriam»), предписывающий делать добрые дела больше, чем обязывает формальный закон; 2) принцип «хилул га-шем» – хуление имени (Божия), запрещающий для славы Бога Израилева, делать что-либо такое, хотя бы законом дозволенное, что при данных обстоятельствах является зазорным и может вызвать хулу на Израиля и на Бога его[12], и наконец, 3) принцип «мипнэ даркэ-шалом» – ради путей мира, – требующий, «чтобы известные действия, по закону необязательные, исполнялись евреями для сохранения и установления мирных отношений со всеми, потому что мир, по Талмуду, есть третий (после истины и справедливости) столп, на котором держится вселенная, а дружелюбие есть величайшая из добродетелей». Указав, затем, на практическое значение применения этих трех принципов, Вл. С. констатирует: «Итак, в Талмуде нет тех дурных законов, которые хотят отыскать в нем антисемиты. Немногие отдельные узаконения, которые с точки зрения современной этики, освободившейся до известной степени от национализма, могут казаться несправедливыми, теряют всю свою практическую силу, благодаря принципам киддуш га-шем, хилул га-шем и мипнэ даркэ-шалом».
Раз ни в религии, ни в этике евреев ничего вредного для христианства и для христианского общества не заключается, то если евреи, по уверению антисемитов, тем не менее оказываются зловредными для общества и государства, причина тому, должно быть, лежит или в самом этническом характере еврея, в том, что он по природе плох и порочен, или в характере его экономической и культурной деятельности, которая, в силу сложившихся обстоятельств, имеет будто тлетворное влияние на окружающее евреев население. Антисемиты, конечно, не стесняются утверждать и то и другое, т. е. еврей и сам по себе плох и порочен, плоха и порочна его культурно-экономическая деятельность. Вл. С. подвергает строгой критике как этнические, так и экономические обвинения.
Судить о достоинстве какого бы то ни было народа на основании личного опыта никак нельзя. Сколько представителей данного народа мы бы ни знали и как бы основательно мы их ни изучили, личный опыт в этом отношении отнюдь не достаточен. Судить о целом народе как таковом, мы можем только, насколько он проявился в истории. Только история народа может доставить возможность судить о нем более или менее правильно. В этом отношении еврейство составляет особенно благодарный материал. «Проходя через всю историю человечества, – замечает Вл. С., – от самого ее начала и до наших дней (чего нельзя сказать ни об одной другой нации), еврейство представляет как бы ось всемирной истории. Вследствие такого центрального значения еврейства в историческом человечестве, все положительные, а также и все отрицательные силы человеческой природы проявляются в этом народе с особенною яркостью. Поэтому обвинения евреев во всевозможных пороках находят свое основание в действительных фактах из жизни еврейства. Но когда на основании этих частностей хотят засудить целиком все еврейство, тогда можно только удивляться смелости обвинителей». О таком народе следует судить не на основании отдельных, разрозненных и случайных фактов, а на основании характерных черт, насколько они проявляются в истории. Открыть такие черты в истории еврейской и, руководствуясь ими, изобразить характер еврейского народа – эту задачу Вл. С., между прочим, поставил себе в своем замечательном трактате «Еврейство – христианский вопрос». Его характеристика еврейского народа, при всей поразительной реальности и беспощадной правдивости, не скрывая его «крайний материализм», – дышит искренним уважением к еврейству. Передать эту мастерскую характеристику в извлечении невозможно, и мы должны отсылать интересующихся ею к вышеназванной брошюре. Для нашей же настоящей задачи вполне достаточно будет привести следующие общие выводы его.
Вл. С. распознал в еврейском характере следующие главные качества: «крепкую веру в живого Бога, затем сильнейшее чувство своей человеческой и народной личности, наконец неудержимое стремление до крайних пределов реализовать и материализовать свою веру и свое чувство, дать им скорее плоть и кровь». «Для всякой идеи и всякого идеала еврей требует видимого осязательного воплощения и явно полезных и благотворных результатов; еврей не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить себе действительность и в ней воплотиться; еврей способен и готов признать самую высочайшую духовную истину, но только с тем, чтобы видеть и ощущать ее реальное действие; он верит в дух, но только в такой, который проникает все материальное, который пользуется материей как своей оболочкой и своим орудием…» «Не отделяя дух от его материального выражения, еврейская мысль тем самым не отделяла и материи от ее духовного и божественного начала; она не признавала материю саму по себе, не придавала значения вещественному бытию как таковому… Идея святой телесности и заботы об осуществлении этой идеи занимают в жизни Израиля несравненно более важное место, нежели у какого-либо другого народа. Сюда принадлежит значительная часть законодательства Моисеева и различения чистого и нечистого и о правилах очищения…» «В национальном характере евреев должны заключаться условия для их избрания. Этот характер в течение четырех тысяч лет успел достаточно определиться и нетрудно найти и указать его отдельные черты. Но это недостаточно. Нужно еще понять их совокупность и взаимную связь. Никто не станет отрицать, что национальный характер евреев обладает цельностью и внутренним единством». Говорить после этого о низшей, порочной еврейской расе при некоторой добросовестности, кажется, вряд ли возможно.
Опровержениям экономических обвинений против евреев Вл. С. посвятил обширное письмо ко мне, которое было назначено для печати, но по независящим от меня причинам не могло появиться. Это письмо было направлено против известных всей читающей русской публике антисемитических органов печати, которые как раз в то время выступали с целым рядом разъяренных обвинений экономического свойства. Обвинения в эксплуатации коренного населения и высасывании его путем спаивания и ростовщичества на разные лады повторялись изо дня в день и не сходили со столбцов означенных газет и, разумеется, все это голословно, без малейшей даже попытки подтвердить свои обвинения какими-либо заслуживающими доверия фактическими данными. Ссылаясь на известные статьи Каткова по еврейскому вопросу, Вл. С. цитирует, между прочим, следующий отзыв знаменитого московского публициста: «Пьянство в западном крае не только не более, но гораздо менее развито, чем в остальной России, и крестьянин там относительно живет не хуже, а лучше; в западном крае действительно господствует страшная нищета, но это нищета не крестьянская, а еврейская». Приведя этот отзыв, Вл. С. в вышеупомянутом письме замечает от себя: «К словам Каткова наши антисемиты не могут относиться так, как они относились бы, например, к моим собственным рассуждениям; от корифея русской «национальной политики» нельзя отделаться общими местами о либерализме, доктринерстве, идеализме и т. д. Катков столь решительно утверждает, что благосостояние крестьян в черте еврейской оседлости вообще выше нежели в ее, что здесь важно только знать, правду ли он говорил или нет, существует ли указанный им факт или нет. Если фактическое утверждение Каткова неверно, то наши антисемиты имеют все удобства, чтобы его опровергнуть. Черта еврейской оседлости (нет худа без добра) делает возможным точное сравнительно статистическое исследование: сравнивая в различных социально-экономических отношениях область давнего и постоянного жительства евреев с теми местами, куда их не пускают, и принимая в соображение все сколько-нибудь значительные побочные условия, можно с достаточною строгостью определить, что именно вносится евреями в окружающее население, каковы результаты их воздействия на жизнь народа. Статистикою еврейства в последнее время занимались довольно усердно; существуют, например, объемистые тома, изданные центральным статистическим комитетом при Министерстве внутренних дел. В этих томах можно найти все, что угодно, кроме единого же на потребу, т. е. кроме сравнительно-статистической параллели между западным краем и коренными губерниями. Такое исследование, упущенное из виду этим полуофициальным изданием, составляет, казалось бы, прямую задачу наших антисемитов; но они тщательно избегают всякого серьезного опыта сравнительной статистики, – единственного средства перенести их проповедь из области свиста и крика на серьезную почву фактов. Уже не чувствуют ли они в глубине души, что научное исследование обличило бы их неправду и что Катков знал, что говорил»[13].



