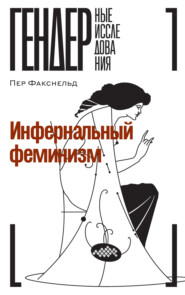
Полная версия:
Инфернальный феминизм
Тот, на кого духовенство любой догматической религии (главным образом христианской) указывает как на Сатану, врага Бога, в действительности является высочайшим божественным Духом – оккультною Мудростью на Земле – в своем природном антагонизме любым земным, мимолетным наваждениям, в том числе догматичным или церковным религиям559.
По утверждению Блаватской, Сатана выполняет незаменимую функцию не только для человечества, но и для Бога: «Бог есть свет, а Сатана есть необходимая ему тьма или тень, без которой чистый свет оставался бы невидимым и непостигаемым»560. Это не означает, что Сатана – противник Бога, заявляет Блаватская, ведь в каком-то смысле они едины, тождественны или же являются двумя сторонами одной медали561. Еще Блаватская настаивает на единстве Иеговы со змеем, искусившим Еву. Они суть одно и то же, и лишь невежество Отцов Церкви превратило змея в дьявола562. На первый взгляд, это совершенно излишние утверждения для мониста, считающего, что все в мире едино. Если все так, то это еще не значит, что неподвижный покой – желательное состояние, а чтобы эволюция могла идти своим чередом, необходимо существование (внешне) антагонистичных сил. По мнению Блаватской, важную роль в эволюции играют Сатана и зло: «Зло – необходимость и одна из опор для проявленного мира. Оно необходимо для прогресса и эволюции, как ночь необходима для рождения Дня, а Смерть – для рождения Жизни, – чтобы человек мог жить вечно»563. Поскольку в теософии уделяется огромное внимание эволюции, неудивительно, что развитие человека, начавшееся благодаря грехопадению, рассматривается как нечто положительное. В теософской космологии природа вселенной определяется как поступательное движение564. Поэтому логично, что выход из состояния покоя, нарушение равновесия – из‐за вкушения запретного плода, – признается счастливым событием.
Существом же, которое вызвало это событие, оказывается все-таки сам человек, обошедшийся без помощи внешнего змея или Сатаны. Блаватская прямо отрицает существование Сатаны «в объективном или даже субъективном мире (в церковном смысле)»565. Однако если Сатана и не существует в церковном смысле, это не значит, что его нет вовсе. Блаватская переносит его из огненного Ада в иное место:
Сатана, или Красный Огненный Дракон, «Владыка Фосфора» (сера была выдумкой богословов), и Люцифер, или «Светоносец», находится в нас самих: это наш Разум – наш искуситель и Искупитель, наш умный освободитель и Спаситель от чистого животного состояния566.
По словам Блаватской, «эзотерическая философия показывает, что человек – поистине проявленное божество в обеих его ипостасях – доброй и злой»567. Таким образом, Бог и Сатана – две грани внутри самого человека (и здесь мы видим параллель с идеей романтиков, тоже переносивших божественное начало в человеческое сознание). При этом они напрямую соединены с трансцендентной сферой, и, по словам Блаватской, Сатана – это «эманация самой сущности чистого божественного начала Махата (Ума), которая исходит прямо из Божественного разума». Без Сатаны, по мнению теософки, «мы были бы ничем не лучше животных»568.
В представлениях Блаватской о Сатане наблюдается довольно резкое несоответствие. Хотя этот персонаж описывается с монистской точки зрения как синонимичный Иегове (который, в свой черед, признается одной из граней самого человека), в других местах, как мы убедились, он изображается скорее благородным бунтарем против несправедливого Бога, и о них обоих говорится как о наделенных сознанием отдельных существах. Эта непоследовательность не вполне объясняется лишь использованием символического языка, хотя и можно ожидать, что в рамках подобного дискурса внутренняя логика будет соблюдаться хотя бы на минимальном уровне. Что касается монизма Блаватской, должно быть, он носил весьма мягкую форму, раз в ее космологии отведено столь заметное место раздвоению и противоборству. Кроме того, в тех пассажах, где горячее всего прославляется Сатана и подвергается нападкам Бог как некий космический диктатор, ни о каком монизме речи не идет.
«Утверждение своевольной и независимой мысли»: споры о дьяволе в «Люцифере»Симпатию к дьяволу Блаватская наглядно продемонстрировала еще до выхода «Тайной доктрины». С сентября 1887 года и далее она выпускала в Англии журнал под названием «Люцифер» (Lucifer). Саму идею его основания можно расценить как часть борьбы за власть, продолжавшейся между ней и Олкоттом: новый журнал задумывался как альтернатива выпускавшемуся им «Теософу» (The Theosophist)569. Блаватская подчеркивала, что в названии журнала нет ничего специфически сатанинского, хотя, конечно, нет никаких сомнений в том, что оно было выбрано нарочно – отчасти для того, чтобы позлить христианскую церковь и других идейных противников. На удивление положительный взгляд на Сатану, годом позже изложенный Блаватской в «Тайной доктрине», тоже делает очевидным явно вкладывавшийся в название журнала двойной смысл. В редакционной статье первого номера Блаватская (судя по всему, автором этой статьи была она сама) отмахивалась от недоразумений, возникших вокруг имени Люцифера, наделяемого исключительно инфернальным значением, и потому заявляла: «Название нашего журнала в той же мере связано с божественными и праведными идеями, что и с предполагаемым мятежом героя Мильтонова „Потерянного рая“»570. Но в той же самой редакционной статье она писала и о Сатане в «величественной небыли Мильтона», что если проанализировать его бунт, то «обнаружится, что он нисколько не хуже по своей природе, чем утверждение своевольной и независимой мысли, как если бы Люцифер родился в XIX веке». Иными словами, она, по сути, представляет Сатану борцом за свободу571. Кроме того, Блаватская наверняка сознавала, что эпатажное название будет выполнять и педагогическую задачу: «Заставлять малодушных прямо смотреть в глаза правде, чего легче всего добиться выбором названия, относящегося к разряду заклейменных имен»572.
Споры, начавшиеся с письма от преподобного Т. Дж. Хедли (августовский номер «Люцифера» за 1888 год), проясняют идеи, распространявшиеся Теософским обществом, и в частности – в этом журнале. Хедли утверждал, что первосвященники, ополчившиеся на Иисуса, постановили убить его как беса. Затем уже другие священники присвоили фигуру Христа и, прикрываясь его именем, принялись создавать различные ложные учения. Следовательно, настоящими бесами следует признать этих самых священников. Однако нужно быть осторожными, предостерегает Хедли, и в борьбе со священниками-бесами не свергнуть с престола самого Христа. Редакция же просто соглашалась с тем, что Христа следует почитать как посвященного в премудрость, а вот католицизм и протестантизм надлежит отвергать573. Затем в дискуссию вступил некий Томас Мэй, решивший сосредоточиться уже на дьяволе. В своем письме он попытался разъяснить, что «всеми проклинаемый дьявол способен преображаться в ангела Света»574. Еще он заявлял, что змей из Эдемского сада соответствует медному змею, которого водружал на посох Моисей, и с этим существом, по словам Мэя, отождествлял себя Иисус. Ухватившись за несколько сомнительную (мягко говоря) этимологическую связь, он пришел к выводу, что Сатана и Бог суть одно и то же, и подкрепил этот вывод утверждением: «Змеепоклонство существовало повсюду, ведь змеи символизируют Мудрость и Вечность». В основе этого довода лежал метафизический монизм, согласно которому существует один-единственный Бог, хотя люди зовут его самыми разными именами – «Юпитер, Плутон, Дионис, Бог, Дьявол, Христос, Сатана»575.
Хедли возражал Мэю, опровергая его рассуждения, и завершал свое письмо так: «Вовсе не верно, как утверждает мистер Мэй, будто добро и зло, или Иисус и дьявол, суть одно и то же»576. Однако редакция встала на сторону Мэя и заявила, что, в самом деле, «„Всевышний“, если ОН бесконечен и вездесущ, и не может быть ничем иным. ОН должен быть одновременно „добром и злом“, „тьмой и светом“ и т. д.» 577. Заодно в редакции воспользовались случаем раскритиковать понятие об олицетворенном Боге и Сатане, хотя Хедли ни словом не обмолвился о том, что представляет себе дьявола именно в виде отдельного существа. Хедли снова прислал ответ – и на сей раз пожаловался, что его выставили в этих дебатах в ложном свете – как человека, верящего в существование олицетворенного дьявола578. Редакционный ответ на его реплику был подписан уже инициалами Е. П. Б. вместо обычного «Редактор» (хотя, скорее всего, и предыдущие ответы писала тоже сама Блаватская) – как будто чтобы сообщить больший вес написанному. Она отмела вопрос Хедли о вере в олицетворенного дьявола и подчеркнула, что важно другое, а именно – опровергнуть глупое религиозное суеверие, ведь именно в этом и заключается главная задача «Люцифера» – журнала, «по существу своему полемического»579. Затем Блаватская выразила согласие с мнением Мэя о том, что Иисус и Люцифер суть одно целое, и подтвердила свою приверженность монизму, лежащему в основе этого суждения580. Мэй, как и Блаватская в «Тайной доктрине», полностью перечеркивает традиционный взгляд на Сатану и заново придумывает этого персонажа, объявляя его исходно неправильно понятым проявлением Высшего начала. При этом Мэй не уточняет, чем же именно является этот персонаж, если не олицетворенной сущностью.
Высказывания Мэя о Сатане никак не могли повлиять на «Тайную доктрину» Блаватской, поскольку эта книга вышла в свет всего месяцем ранее581. Ни в «Разоблаченной Изиде», ни в одном другом из теософских текстов, опубликованных в промежутке между публикациями двух главных книг Блаватской, ничего подобного не обнаруживается. Следовательно, эти толкования либо распространялись в Обществе устно – и тогда и источником идей, высказанных Мэем, могла быть (прямо или косвенно) сама Блаватская, – либо они были заимствованы из какого-то внешнего источника. И теперь мы рассмотрим некоторые из этих возможных источников, питавших более широкий просатанинский дискурс того времени, который имел хождение среди некоторых социалистов и радикально настроенных художников и писателей.
Сатана Блаватской и дьявольская тема в социализме, искусстве и романтизмеВ силу своей близости к защитникам пролетариата вроде Чарльза Сотерана Блаватская, вероятно, знала о том, что в сочинениях социалистов вроде Бакунина и Прудона Сатана выступает символом политического освобождения. В частности, одним из источников вдохновения могла послужить для нее книга Бакунина «Бог и государство», где Сатана назывался подателем знания и где совершалось позитивное переосмысление грехопадения в райском саду. Новая версия этого мифа, которую выдвинула Блаватская, весьма напоминала бакунинское изложение ветхозаветных событий.
Что же касается названия журнала Блаватской, можно отметить, что в 1883 году, за четыре года до основания одноименного теософского печатного органа, уже издавалась еженедельная газета анархистов-индивидуалистов «Люцифер-Светоносец». Напомним также, что имя Люцифера использовалось как название и другими социалистическими изданиями. В декабре 1886 и в апреле 1887 года ранние шведские социал-демократы распространяли примитивные пропагандистские листовки под тем же заголовком, а позже, в 1891 году, это же имя взял журнал, выпускавшийся уже на более щедрые средства. Вряд ли Блаватская подозревала о существовании этих малоизвестных шведских изданий, зато вполне могла знать об американской газете. Интересно, что в радикальных кругах, где вращались некоторые из ближайших соратников Блаватской, образ Люцифера – иногда воспринимавшийся совершенно отдельно от понятия о дьяволе – давно уже утвердился в качестве символа освобождения.
Обложку первого же номера журнала Блаватской украшало изображение миловидного и благородного Люцифера с горящим факелом в руке, и удивительно похожее на картинку, красовавшуюся на обложке рождественского выпуска Lucifer: Ljusbringaren за 1893 год, издававшегося шведскими социал-демократами. Или социалисты скопировали подсмотренный у теософов рисунок, или же и те и другие взяли за образец какое-то более раннее изображение. Последнее предположение не кажется таким уж невероятным, поскольку фигура, которую мы видим на этих обложках, весьма напоминает образ героического Сатаны, уже знакомый по различным произведениям романтического искусства: это, например, «Ангел зла» Йозефа Гефса (мраморная статуя, 1842), «Сатана и его легионы бросают вызов Небесному своду» (гравюра, 1792–1794) и «Сатана в тревоге… противостоял опасности» Ричарда Уэстолла (пунктирная гравюра, 1794). Это иконографическое сходство помещает теософский журнал в художественный контекст, где Сатана прославляется как прекрасный, рыцарственный и величественный герой.
Конечно же, Блаватская, как и любой другой начитанный человек конца XIX века, была хорошо знакома с главными произведениями английских романтиков-сатанистов – Байрона и Шелли. В своих сочинениях она несколько раз ссылается на них582. А в статье 1882 года обсуждает и антиклерикальное стихотворение итальянского поэта Джозуэ Кардуччи «Гимн Сатане» (написанное в 1863 и опубликованное в 1885 году), которое, пожалуй, является одним из наиболее программных и откровенных текстов романтического сатанизма583. Совершенно очевидно, что Блаватская черпала свои представления о Сатане из арсенала романтиков – во всяком случае, в общих чертах. В некоторых своих произведениях они тоже делали его символом независимости, дерзостного бунтарства и освобождения от деспотизма. Оригинальность Блаватской состояла в том, что она встроила эти понятия в свою эзотерическую систему.
«Настоящий смысл этих глав»: феминистское контрпрочтение Блаватской?Как уже говорилось, исследователи, писавшие о теософии, обращали внимание на значительную область пересечения феминистских течений и этого нового религиозного движения. Однако, что примечательно, еще никто не изучал феминистскую подоплеку выдвинутого Блаватской контрпрочтения третьей главы Книги Бытия. Мэри Фаррел Беднаровски отмечала, что для маргинальных религиозных групп, предлагавших женщинам руководящие роли, характерны четыре фактора:
(1) представление о божественном, ослабляющее значение мужского начала; (2) смягчение или отрицание доктрины о Грехопадении; (3) отрицание необходимости традиционного рукоположенного духовенства; (4) взгляд на брак, не подразумевающий, что брак и материнство – единственные приемлемые для женщины роли584.
Беднаровски исследует, как именно эти взгляды выражаются в шейкеризме, спиритизме, христианской науке и теософии585. Конечно, переосмысление учения о грехопадении занимает центральное место в сатанизме Блаватской, и в «Тайной доктрине» оно рассмотрено весьма подробно. Но, как ни странно, в статье Беднаровски совсем не уделено внимание теософским воззрениям на грехопадение, хотя она и рассуждает на эту тему в связи с некоторыми другими рассматриваемыми ею группами. Ввиду важности третьей главы Книги Бытия в феминистском контексте особенно любопытно посмотреть, как теософские тексты трактуют предложение змея обрести знание. Беднаровски подчеркивает, что исторически эдемский нарратив использовался в качестве «доказательства» нравственной уязвимости женщины и в итоге сыграл решающую роль в отстранении женщин от ключевых позиций в церковной иерархии586. Блаватская рассматривала грехопадение как событие положительное, приближающее человека к знанию-гнозису, а следовательно, косвенным образом давала более высокую оценку женщине: она уже не несла ответственность за впадение человечества во грех, а деятельно участвовала в добывании духовной мудрости от доброжелательного змея. Возможно, у Блаватской были и политико-феминистские соображения, побуждавшие ее смотреть на грехопадение именно так. Ведь она сама была женщиной и религиозным лидером, несшим человечеству эзотерическую мудрость, и потому у нее имелись все основания для желания сокрушить старую негативную трактовку истории о Еве и Древе Познания587.
В статье «Будущее женщин», опубликованной в октябрьском номере «Люцифера» за 1890 год, феминистка Сьюзен Э. Гэй доказывает, что женщины и мужчины – это просто души, временно воплотившиеся в женских и мужских телах, и что даже в течение земной жизни многие женщины проявляют себя более по-мужски, чем некоторые мужчины, и наоборот. Поэтому неправильно навязывать какие-то специальные ограничения никому из женщин. «В обоих полах истинный идеал, – пишет она, – осуществляется в тех исключительных, но великих характерах, которые обладают лучшими и благороднейшими качествами обоих полов, и в тех, кто достиг духовного равновесия двуединства»588. Вина за продолжающееся угнетение женщин возлагается на церковь. И в этом контексте Гэй затрагивает вопрос о грехопадении очень интересным образом. Она рассказывает о том, как член палаты общин процитировал в прениях слова из Книги Бытия, 3: 16 («К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою»), где Бог проклинает Еву, и коллеги встретили его слова одобрительными возгласами. Поскольку Гэй пишет для читателей теософского журнала, хорошо знакомых с контрпрочтениями Библии в «Тайной доктрине» Блаватской, далее она утверждает: «Если бы досточтимые члены парламента были посвящены в настоящий смысл этих глав, где рассказывается о падении и судьбе нашего человеческого рода, возможно, они воздержались бы от выражения столь глубокого невежества»589. Разумеется, она имела в виду точку зрения Блаватской на змея как на существо доброжелательное, на носителя мудрости, откуда вытекало, что и Ева – ни в коем случае не проклятое существо.
Даже если сама Блаватская и не связывала это напрямую с феминизмом, так, безусловно, поступали некоторые ее сторонницы и включали такую интерпретацию в свою полемику, где эзотерические толкования Библии сочетались с политической агитацией. Как заключает Крафт, говоря о нетрадиционном образе жизни женщин вроде Блаватской, даже то, что не задумывалось как вклад в борьбу феминисток, могло служить ей мощным подспорьем590. Как мы видим, этот вывод столь же хорошо применим и к созданию контрмифа, наносившего удар по традиционным интерпретациям библейского сюжета, которые издавна пускались в ход для оправдания подчиненного положения женщин.
Сами редакторы «Люцифера» недвусмысленно давали понять, что видят в экзотерическом христианстве помеху женской эмансипации, а в редакционной статье августовского выпуска 1890 года говорилось, что добиваться избирательного права для женщин и одновременно посещать церкви, выступающие против женской свободы, – все равно что «сверлить дырки в морской воде»591. «Вы должны ругать не законы страны, – обращался автор редакционной статьи к христианкам-суфражисткам, – а Церковь и в первую очередь самих себя»592. Учитывая подобную риторику, можно, не впадая в крайности, представить, что одним из намерений, стоявших за совершенным Блаватской просатанинским низвержением христианских мифов, было желание освободить женщин от гнета, на службу которому были издавна поставлены традиционные символы.
В эзотерических идеях Блаватской вообще уделялось внимание теме половых различий, а именно – отрицалась их важность. По мнению Блаватской, «эзотерика не различает полов», и духовное развитие через ряд воплощений в конце концов приводит к появлению духовного андрогина, «Божественного Гермафродита»593. Возникает соблазн предположить, что теософское понятие Божественного Гермафродита было как-то связано с придуманным Элифасом Леви гермафродитским дьяволоподобным Бафометом, чей образ, в свой черед, восходил к старинной христианской иконографии – традиции изображать Сатану существом смешанного пола594. Хотя, разумеется, Блаватской были знакомы эти представления, как и теории Леви, относившиеся к изображаемому персонажу, во всех ее произведениях можно найти всего пять коротких упоминаний Бафомета. Это не исключает вероятности того, что двуполый символ просвещения, изобретенный Леви, мог как-то повлиять на ее размышления о поле595. Однако явная связь между гермафродитом как духовным идеалом, люциферианством и Бафометом в работах Блаватской не прослеживаются, сколь бы логичной и соблазнительной она ни казалась.
Крафт высказала удивительное предположение о том, что Блаватская сама могла быть гермафродитом – в физическом смысле. Блаватская заявляла, что оставалась девственницей всю жизнь, несмотря на два замужества, и что у нее есть даже врачебное свидетельство, подтверждающее, что из‐за травм, полученных при падении с лошади (в результате чего, как она рассказывала в одном письме, у нее «выпали все внутренности, включая матку и прочие органы»), она не способна иметь никаких плотских сношений с мужчинами. В том же письме, далее, она говорила, что «у нее нет кое-чего, на этом месте только нечто вроде кривого огурца». Крафт толкует эти слова как возможное указание на гермафродитизм596. Однако в то, что такое состояние могло быть вызвано падением с лошади, поверить очень трудно. Конечно, столь малоправдоподобную версию Блаватская могла выдвигать, чтобы объяснить аномалию, которая в действительности была у нее с рождения. Но, если отвлечься от вопроса о форме ее гениталий, стоит отметить, что Блаватская обычно отвергала традиционные женские атрибуты, изображала себя андрогином и в личной переписке подписывалась именем Джек. Олкотт, в личном дневнике именовавший ее «мужедамой» (she-male), тоже звал ее Джеком, как и другие близкие друзья597. Иногда она говорила о каком-то «обитателе», о «внутреннем человеке», которого можно считать или ее высшим сознанием, или же вселявшимся в нее духом одного из ее таинственных Учителей598. Сознательная маскулинизация Блаватской, пожалуй, вызывает вопросы к ней с феминистской точки зрения, хотя следует заметить, что в разное время оценка феминистками андрогинности и присвоения женщинами мужских черт очень сильно варьировалась. Учитывая подобные флуктуации, представляется разумным просто заключить (как это и делает Крафт), что Блаватская все же внесла заметный вклад в феминизм – тем, что пошатнула привычные понятия о гендерных ролях599.
Любовь к размыванию гендерных границ перешла от самой Блаватской и к другим членам Общества, которые взялись по-новому изображать мифических персонажей. В выпуске «Люцифера» за октябрь 1887 года было напечатано стихотворение Джеральда Мэсси под названием «Дева Света», где поэт заклинает: «Освети нас внутри, как и снаружи, / Люцифер, о Дева Света!»600 Дальше есть такие строки:
Пламенем твоих лучей сразиОблака, что не дают узретьЖенщины тысячелетнее призванье,Люцифер, о Дева Света! 601В сноске он сам поясняет, что «все боги и богини древних пантеонов андрогинны» и что «наш Люцифер» тождествен Венере, Иштар и Астарте (Ашторет). Протягивая нить от этого андрогинного/женственного Люцифера к традиционным «зловещим» библейским символам, Мэсси утверждает, что он (точнее, она) и есть та звезда Полынь, падение которой на землю наблюдал Иоанн Богослов (Откр. 8: 10)602. Любопытно, что это установление связи между Люцифером и «зловещими» явлениями и одновременное наделение Люцифера женскими чертами вызывают к жизни некий образ теософского Сатаны в женском обличье, который, возможно, имеет отношение к неявной и явной положительной переоценке Блаватской обоих понятий (и, конечно же, не следует забывать о том, какую важность она придавала Божественному Гермафродиту, преодолевавшему все различия земных полов).
Е. П. Блаватская – инфернальная феминистка?А теперь давайте произведем краткий обзор наших находок, касающихся Блаватской и теософских представлений о Люцифере. Во-первых, мы выяснили, что прославления Сатаны не являются основной темой «Тайной доктрины». В общей сложности отведенное ему место занимает совсем небольшой объем из почти полутора тысяч страниц двух томов этой книги. Если же мы заглянем в указатель 14-томного собрания сочинений Блаватской (куда, следует отметить, не входят «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Изида»), то увидим, что там ссылки на сатанизм, дьявола, Люцифера и Сатану занимают около полутора страниц. Можно сравнить это с количеством упоминаний Будды и буддизма – они занимают в указателе более шести страниц, а списки отсылок к Христу и Иисусу – около четырех страниц. Конечно, указатель, если использовать его с такой целью, – довольно неудобный инструмент, и нам не следует преувеличивать важность частоты упоминания тех или иных слов. И все же кое о чем этот критерий говорит, да и, ознакомившись с различными сочинениями Блаватской, можно подтвердить, что эта «статистическая» оценка в целом оказывается верна. Если какой-то персонаж религиозных мифов и занимает в трудах Блаватской особое и наиболее значительное место, то это, вне всякого сомнения, Будда603. Поэтому было бы нелепо называть Блаватскую сатанисткой в узком смысле слова, так как мое определение подобного рода сатанизма подразумевает, что в рассматриваемой системе Сатана должен занимать центральное место604. И все равно остается очевидным, что в, пожалуй, самой влиятельной книге Блаватской содержится довольно большое количество явных восхвалений Сатаны и что это – один из первых примеров подобного недвусмысленного прославления, какого удостаивается этот персонаж именно в эзотерическом контексте, вне политической сферы и вне романтической и декадентской литературы.



