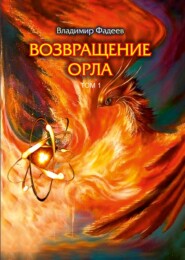скачать книгу бесплатно
Или?..
«Сволочь Орликов… ещё улыбается идёт!»
Хотя кто-кто, а партийный босс знал, что лучше провалить производственный план, испытания новой атомной бомбы сорвать, ядерную установку угробить, а то и вовсе… дела тут сплошь секретные, тёмные, задурить голову можно кому угодно… но вот напортачить с отправкой в колхоз – берегись. Абсурд, но факт, самый что ни на есть материальный факт, и кому, как не коммунистам-материалистам с ним считаться? Они считались. Но всё равно – странно…
– О! Отцы-командиры, заехали-таки на посошок! По писят (пятьдесят)?
– Помолчал бы, Михаил Васильевич! – Зотов пытался удержать ситуацию в нейтрале.
– А как же мне, били-мыли, молча вести антиалкогольную пропаганду? По писят, по писят!..
– Уймись!.. – осадил Орликова начальник, хотя знал, что бесполезно, если уж дошло до «били-мыли».
– Некогда нам, Миш, – они все были ещё семипалатинскими, могли позволить себе и панибратство, но не на людях же!
– Некогда? Куда же спешите? Гарвардские миллиарды делить?
– Что ты мелешь?
– Ладно, по писят, и никому ничего не скажу, травите, били-мыли, русского человека дальше.
– Креста на тебе нет! – возмутился парторг, не без труда скрывая внутреннюю удовлетворённость: физиков он, «рабочая косточка», не любил и всякое их падение было ему бальзамом: как всякий карьерист, особенно партийный, достигший потолка и поэтому уже исчерпавший возможности испытывать удовольствие от собственного роста, он испытывал удовольствие от падения ближних, особенно этих высокомерных ядерщиков-атомщиков – всё же в сравнении. Радовался: вот вы у меня где! Ядерщики? А ну-ка в колхоз, стройся!
– Воистину нет – я же некрещёный. А на тебе, били-мыли, выходит, есть?
«Только убить!»
«Убить, убить!» – и мимо Орла к сидящему под дубом Тимофеичу.
– Все в сборе?
– Почти.
Зотов оглядел «колхозников».
– А где же… – Он сразу выцепил, кого нет, не любил он эту команду, дышат, понимаешь, в спину…
– Они на своём транспорте… – «Додержись тут!»
– Ну-ну. – «Влипайте, влипайте, милые!.. Лучше будет, если они с самого начала облажаются, с райкомами-то Гарков выкрутится, завтра, если что, других дошлём, а уж я приму меры…»
Свободными и сильными управлять может только свободный и сильный, Гаркову и Зотову, мошкам в верховой паутине, нужны были только виноватые. Непьющий председатель общества трезвости – очень для них некомфортный вариант. Полупартийная паства прежнего большого страха, в котором все виноваты и без вины, уже не емлет, к маленькому страху в упряжку нужна вина осязаемая, не три колоска, а вот посадить человечка на стакан, как в клетку, и ключик в карман – это да. Поэтому трезвый коммунист Орликов хуже незваного гостя. Хуже Тимофеича.
А тут ещё эта поросль. Знал начальник, соберутся вместе – жди событий. Не хотелось их, событий, а они, похоже, уже начинались. На своём транспорте они… Не хотелось, но и от них, событий, польза: косяком больше, поводок короче и жёстче, спокойней ядерная старость. Нет худа без добра, истинно.
– Ну-ну.
– Что ж не загружаемся? – Гаркову в десять часов нужно было докладывать в райком: «Десант на поля родины отправлен», и потом – Небывалову, куратору его из конторы, этому Джеймсу недорезанному Бонду: «объекты в пути» (опять кольнуло: какая-то недосказанность, почти тайна, а он не посвящён) и тогда уже спи спокойно – поехали, поехали!
«Колхозники» потащили рюкзаки. Орёл резко сломался – тимофеичевы писят дошли, встретились с женькиными и предыдущими декалитрами, в автобус его уже вносили, Зотов перехватил недобрый взгляд, каким Тимофеич этот внос сопроводил. «А как если он нашего Орла там упоит до смерти?»
– Ты… ты за возвращение Орла отвечаешь. Живого, здорового… – не преминул он озвучить свою тайную тревогу.
– Да что с ним может случиться?
– Вот-вот, чтобы ничего и не случилось. – Зотов вытащил из папки бумагу про «Знак Почёта». – Посмотри вот, какая до него нужда, – и дал её Тимофеичу, всё равно ведь узнает (откуда, кстати, он всегда всё знает?), а тут он сам показал, никаких, мол, от тебя тайн… ну и конечно, чтоб повнимательней за Орлом…
Затарахтел мотоцикл, к Французкой горке подруливала автомотоколонна о трёх моторах. Тимофеич про себя выругался, лучше бы не оправдывался за них, но всё равно облегчённо вздохнул, добавил в список галочек – против Алексеева, Волкова, Жданова, Ненадышина, Ощепкова, Паринова, Скурихина.
– Ну, теперь все, – быстро дорисовал семь галочек и отдал список Зотову, а у того в голове и отметилось: бумагу забрал…
– Грузимся, что ж, это… грузимся! – непривычно было командовать. Селифон, глядя на него, усмехнулся, что от тонкокожего наблюдателя не ускользнуло, освободил проход и забрался в кабину.
В коляску к Африке сел Семён, в «копейку» с Поручиком – Аркадий, в «ушастый» с Капитаном – Виночерпий. Умница Николай Николаевич, красный и радостный, с криками «Я с народом! Гитару мне!» полез в автобус.
Последними зашли недовольный Зотов и довольный (пьяные уже!) Гарков – НИИП был по пути, встали у передней двери. Шофёр, Василий Сергеевич Селифонов, высунулся в салон на полкорпуса, бесцеремонно отодвинул рукой парткомовского секретаря, зычно крикнул:
– Не блевать! – и одобряюще подмигнул Тимофеичу.
И физики поехали в колхоз… вон из города, и прямо на реку…
Через пять минут – сквозь лесок и спуститься к Москве-реке – остановились напротив НИИПовской трубы, руководство вышло, сделав ручкой, потом проехали ещё метров двести по Тураевской улице, за поворот, подальше от глаз, и уже тут, аккурат около старинной деревянной старообрядческой церкви Рождества Богородицы, действующей во все времена церковного, а особенно раскольного лихолетья, Николаич организовал первый «автобусный» тост – за НИИП! Селифон, бывалый перевозчик, терпеливо подождал, не трогался: за НИИП – святое.
Труба
Здесь всё совершалось по трубе.
Труба управляла невидимой жизнью.
В. Катаев, «Сын полка»
В лыткаринском народе научно-исследовательский институт приборов, НИИП, прозывался «Трубой». «Где работаешь?» – «На Трубе». Обычный ответ. Труба возвышалась над москворецкой поймой на немыслимые ни для одного завода и уж тем более ни для одной из котельных во всех, сошедшихся в этой точке подмосковья Люберецкого, Ленинского и Раменского районов, сто двадцать метров, и была как бы иглой, на которую, как лепестки трёхпалого географического цветка, эти районы были нанизаны. Жителей окрестностей Труба тревожила хуже полнолуния, она была непонятней этой небесной пуговицы, непонятней которой уже, казалось, Создатель ничего и не придумает, но труба была ещё непонятней, потому что всем тысячам и тысячам окрестных жителей тысячи и тысячи лет известно: труба для того, чтобы выпускать дым, в крайнем случае – пар, а из этой трубы никогда и ничего… Были на этот счёт у старух из окрестных поселков – обоих, Верхнего и Нижнего Мячковых, Андреевки, Молокова и Зелёной Слободы разные фантазии: мол, у трубы обратная тяга, она не выпускает, а всасывает с верхней кромки неба самый чистый воздух и скоро его не останется, или что это не для дыма труба, а для подзора, подзорная труба, внутри неё линзы, линзы… на соседнем стекольном заводе для их изготовления специальный цех построили, вон он, тоже торчит теперь над лесом, пониже, конечно, но в такую же – родственную! – красную полоску. Но самой ходовой версией была другая: это вообще не труба, дырки внутри неё нет, это башня, столп, а уж если это столп, то и дела вокруг него совсем иного покроя, потому что столп ещё в тысячу раз непонятней самой непонятной трубы, у которой имеется-таки что-то объясняющая дырка, а у столпа-то вместо дырки сплошная тайна.
Говорили также, что это не труба, а подставка, вроде как маяк, и наверху кто-то есть, и этот кто-то кому-то постоянно сигналит, внутри же не просто дыра, а лифт… Наиболее продвинутые рассказывали наименее продвинутым, что это не труба, а трубка, обычная ускорительная трубка гигантского линейного ускорителя, и даже объясняли, как он, ускоритель, работает, а именно – как реактивный двигатель у самолёта, только «скорее» – ускоритель же! – и ускоряет он саму землю, чтобы она налетела (или не налетела, в зависимости от психотипа рассказчика) на ту самую небесную ось.
Правда, однажды многие из этих версий были подорваны: старый механик Василий Анисимович Паринов, отец Африки, уснул пьяным (после особенно ответственного эксперимента) в вентиляционной камере и уронил на поролон, на котором спал, папиросу. Ему ничего – тяга на сто двадцать метров дай бог, а полчаса чёрный дым из трубы шёл. Но, во-первых, что такое полчаса за двадцать лет? Во-вторых, раз в год и палка стреляет, почему бы столпу раз в двадцать лет не подымить, а в-третьих – кто видел?
Но вот в часы нередких в речной низине густых утренних туманов, когда покидающая тяжёлую плоть речная душа заполняет котловину от самого лыткаринского леса с одного берега Москвы-реки и до таинственного андреевского леса с другого берега, укутывая, даже, кажется, пожирая все сверхсекретные тураевские гнездилища так, что только Труба остаётся торчать из клубящейся белизны – вот в эти часы даже самые примитивные реалисты-материалисты, увидев этот военно-промышленный лингам, пронзивший живую душу почти вечной реки, горстями собирают со своих вдруг порыхлевших тел мурашки: чур, чур, чур!.. нет, не только трилистник районов нанизан на эту иголочку, не только…
Кстати, и Василий Сергеевич Селифонов, шофёр львовского автобуса, хоть и не физик, всегда чувствовавший в себе тягу к высокому, поспорил как-то с коллегами по баранке, что заберётся по прилепленной к трубе лестнице до самого верха. Естественно на бутылку. Вторую. После первой он полез. И долез!.. аж до третьего (из восьми) кольца, после чего, слабая воля, взял да посмотрел вниз. Тамбовский парень из равнинного села Самодуровка… Впрочем, из проигранной бутылки стакан ему всё-таки накатили, и уже после этой, второй, он полез снова. Мечтал в самодуровском детстве стать лётчиком – сверху же видно всё…
А сам НИИП, тот что под Трубой, был чем-то средним между НИИЧАВО Стругацких и «Аненербе» предвоенных немцев, с рыжим смотрящим, где проводились опыты, не столько касающиеся радиационной стойкости материалов, сколько опыты психоэзотерические над продвинутыми мальчиками. Причём касалось это не всего института, где две тысячи сотрудников, как в тысячах других НИИ по стране, протирали штаны, внося посильную лепту в обе стороны – в страну и в семью, а только одного отдела, спрятанного глубоко под землёй, под самой трубой – реакторы, ускорители, климатические и прочие установки и полторы сотни странных физиков, бывших каждый в своё время этими самыми очень умненькими мальчиками. Казалось, что отбор туда происходил обычно – преимущественно из местных вундеркиндов, да дело-то в том, что сам город Лыткарино, как город, появился всего одно поколение назад, и это первое поколение само было аккуратно кем-то просеяно. Непростой, мягко скажем, городок, да и каким он ещё мог быть на месте тысячелетнего поселения вольных и не очень вольных каменщиков – лыткарей?
Словом, как говорил Роберт Людвигович, место для устройства «межзвёздной явки» должно удовлетворять очень противоречивым требованиям: не слишком большая удалённость от культурных центров, редкое и суеверное народонаселение, пересечённая местность, желательно с дурной славой… – всё это точно про Лыткаринский НИИП, жаль, очень жаль, что мы от него сейчас уезжаем, и одно только нас оправдывает, утешает и согревает: мест с противоречивыми требованиями на русской земле не сосчитать.
Вперёд!
Приезд
— Давайте же начнём! – сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. – Пришло время потолковать о… кораблях… о капусте…
Л. Кэрролл, «Сквозь зеркало»
Приехали – двое из ларца – ещё двое – мы едем! – явленье курицы
Приехали
Возгласами звонкими
Полон экипаж.
Ах, когда же вынырнет
С белыми колонками
Старый домик наш!
М. Цветаева, «Приезд»
Тот, кто сказал, что не место красит человека, а человек место, всё-таки немного погорячился. Конечно, человек тоже может бурьян скосить, а на его месте возделать репу и насадить клумб – с пользой и красиво, но это же для человека только! А для самого места бурьян, может быть, был куда полезней и красивее. То есть, вы место-то спросили, нужно его под человека красить? И поэтому все человеческие местоукрашательства часто ведут сначала к обезображиванию этого места, а потом и самого человека. А вот место может человека не только что украсить, но реально, без какого-либо вреда для сторон, преобразить. Поезжайте в горы! Нет, вы поезжайте, поезжайте!
Или на Оку. Даже лучше – на Оку…
Вынырнул и белый домик, только съехали с парома, небольшой поворот – и вот он, белый домик правления совхоза, домик, правда, двухэтажный, тут, через дорогу, на наклонённой в сторону реки лужайке, под самыми его окнами и остановились – смена.
Доехали, в общем, нормально, даже Николай Николаевич начал блевать уже выйдя на воздух, от воли, да пару раз уронили, вытаскивая из автобуса, бесчувственного Орликова: первый раз во время остановки за бронницкой заправкой, когда он попросился вместе со всеми «выйти», боясь пропустить «нетряский разлив», обязательную получасовую остановку на дорожный пикник, и второй раз уже здесь, в Дединово. Роняли по схожему сценарию – сверху подавали, а снизу не приняли. Первый раз он ещё успел чуть сложиться и выставить руки, второй уже падал плашмя, клювом вперёд. В дороге у него как будто открылась вторая утроба, вторая кровеносная система. Четвёртая неделя запоя в его исполнении предполагала размеренный драйв – по глотку в час-полтора, этого было достаточно для обеспечения как критичности (с какой-то надеждой на подкритичность) физиологического процесса, так и сумеречности сознания, позволявшей видеть много чего внутри наплевавшей на тело души, но совершенно не способной к трезвому (ну, сказал!) взгляду на себя со стороны (защита). Обильная халява и иллюзия освобождения из пандемониума вскрыли кингстоны едва держащегося на плаву Орла…
Николаич полдороги, аккурат до воскресенского поворота, голосил командные лыткаринские песни: «Я многих городов вдыхал сонливый ветер, столицы и углов, далёких от неё, но краше тебя нет на целом белом свете, Лыткарино моё, Лыткарино моё! Лыткарино, Лыткарино…», «Я из Рима уезжаю в русский город Лыткарино…», потом пытался радостно-трагически петь известных бардов, коверкая после пулемётной очереди тостов (песня-тост) всё, что можно исковеркать в четырёх куплетах: «Восемь мальчиков, восемь физиков едут в смерЧь…» (бедный Егоров! Бедный Стёркин!), пока, наконец, под тост за процветание аграрно-ядерного сотрудничества не вырубился окончательно: автобус тряхнуло, и спирт попал не в горло, а прямо в некогда светлые Колины мозги – Николаич рухнул на мягкое сиденье и до самого Дединова в себя не приходил.
А теперь вот блевал под колесо львовского автобуса. Единственный из команды под своим именем, он был, конечно, наиболее уязвим: вражьи духи легко его идентифицировали и, беззащитного, атаковали.
К другому колесу был привален Орликов.
Тимофеич с брезгливым удивлением смотрел на мучающегося коллегу, панически пытаясь совместить своего начальника смены, лучшего физика института, непрерывно фонтанировавшего идеями, и блюющую у колеса скотину… Не получалось, мозг крошился, Кэрролл со своим Зазеркальем плакал.
– Может таблеток ему каких?
– Антиблевотика? – Виночерпий с профессорским видом отрицательно качнул головой. – Не поможет…
– А что поможет?
– Только коса.
– В смысле с косой?
– Накаркаешь, Тимофеич, – отмахнулся Виночерпий.
Какая-то женщина – старая? не очень… – проходя мимо, покачала сокрушённо головой: «Да кто же творит над вами такое…», вдруг остановилась (послышался ей жутковатый хохот с вершины тополя, что слева?), втянула голову в плечи, поспешно перекрестилась и, вздыхая, пошла дальше.
«На кой же чёрт я согласился?!» – почти простонал Тимофеич, но, собравшись, попросил отвезти обоих с глаз в примыкающий к правлению барачный корпус, где в этом году селили НИИПовцев.
Всего-то было через дорогу, но первого, Орла, никак не могли запихнуть в «копейку» – вываливался.
– Что ж он так воняет? – морщился Поручик, специально не доталкивая Орликова до сиденья.
– Птица только в небе хороша, а с птицефермой по амбре ни один свинарник не потягается, – Капитан был ещё трезв и глубокомыслен.
– Как они с ним в автобусе ехали? Давай так дотащим, а то потом в машину не сядешь.
Вдвоём с Капитаном подняли, стараясь сильно не прижиматься, поволокли.
– А этого? – умоляюще показал Тимофеич на Ненадышина, когда вернулись.
– Нет, этот с нами. – Невозмутимость, конечно, не заменит ни одной добродетели, но часто за них сходит. Скурихин, Капитан, был невозмутим, поэтому сходил и за самого умного, и за самого старшего, и за самого трезвого… А может, он таким и был?
– Куда – с вами?
– На косу… мы в бараке не живём, мы на берегу, в палатках.
– А как же…
– Да ты не переживай, Тимофеич, мы же мобильные, не первый раз: в восемь подъём, в девять в поле. Завтрак наш можете первые три дня есть.
– Тогда и Орликова забирайте.
– Куда мы его на берегу денем? Пусть себе спит в бараке две недели – какие заботы? Он, когда квасит, смирный.
– Вот сам с ним тут и спи, со смирным! На косу они собрались… Никаких тогда кос! – отрезал с неожиданной для самого себя твёрдостью, да и как было иначе: мало того, что те, за кем хотел понаблюдать и от кого ждал поддержки на новом для него колхозном поприще, уезжают на какую-то косу, да ещё сверхпроблемного Орла ему оставляют. – Никаких кос!
Смотрящий с автобусной ступеньки на эту сцену Селифон одобрительно хмыкнул, а Тимофеич поморщился: странный этот Селифон, опять наблюдает. Ему даже нафантазировалось, что в несуществующей иерархии наблюдателей этот Селифон будет повыше его самого. Простой водила, а, говорят, дружил с начальником химводоочистки алкоголиком-химиком Щеглаковым, начальником отдела кадров Зелениным, даже с самим главным министерским кадровиком Жомовым Михаилом Ивановичем. В простое открывание ларчика не верилось: Жомова Селифон когда-то возил, с Зелениным пил, а с Щеглаковым играл в шахматы… потому что даже это простое «он был у Жомова шофёром» слышалось мистически: «он был водителем», а в самом слове шофёр слышалось шафер, который, пока физики-химики колдуют в ночную смену в подземелье, ходит по периметру и кнутом отпугивает ненужных духов.
«А ведь можно всё испортить», – подумал Капитан. Он знал, чувствовал, что препятствий к осуществлению его небывалого плана и кроме фляги будет достаточно, и, в принципе, был готов к любым бытовым компромиссам, но всё равно обвёл глазами поляну, словно хотел найти в ком-то поддержку или хотя бы совет – встретился взглядом с Селифоном, и тот как будто кивнул: бери, бери его с собой!
– Семён, Аркадий, несите Орла назад, берём его на косу.
– Нельзя его с нами, по-честности! – почти вскричал Аркадий, стуча при этом себе в грудь ребром ладони – жест, означавший у него высшее соответствие не просто справедливости, но Истине. Справедливость, как сказал один популярный полвека назад еврей, очень жёсткое слово, как метель на морозе, а валеркино «по-честности», в отличие от нивелирующей безлюдной метелеморозной справедливости, было помягче, потеплее, и при этом предполагало присутствие живого человеческого, и уже поэтому более истинно. – Он мне в подвале осточертел!
– Как же он – на косе?.. – оторопел Семён и с укоризной в сторону Африки: «И зачем ты его только из гаража вытаскивал!»
– Не нужен нам этот насос! – меньше всех перспектива присутствия в команде бездольного алкаша Орликова коробила Виночерпия – вся его мистическая арифметика ломалась на глазах.
– Или… – Капитан посмотрел с укоризной на Тимофеича, – или все остаёмся тут.
Это в корне меняло ситуацию.
– Ладно, Семён, пойдём… – на самом-то деле Аркадию было хоть с чёртом, только бы у воды…
Обратно Орликов пытался взбрыкивать, его роняли, поднимали и тащили дальше.
– Если, Кэп, ты такой добрый, то и сажай его к себе, – повторять ароматический опыт Поручик явно не собирался.
Капитан – что было делать? – согласился. Началась загрузка.