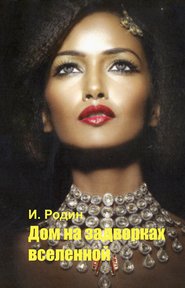
Полная версия:
Дом на задворках вселенной
Внезапно в сквере стало многолюдно.
В кинотеатре кончился сеанс, и из открывшихся дверей хлынул народ. В глазах зарябило. Холодный звенящий воздух наполнился гулом голосов и шарканьем ног по едва покрытому снегом асфальту. Я вдруг опять почувствовал досаду: мимо проходили люди, и сосредоточиться вновь не было никакой возможности.
Скоро последние зрители покинули кинотеатр, и опять в сквере стало спокойно. Настолько, насколько это может быть в час пик.
Снег, падавший до сих пор довольно часто, стал реже и мельче. Как если бы его кто-то специально просеял сквозь мелкое сито.
Обернувшись, я увидел, что девицы исчезли, оставив после себя на лавке смятую пачку из-под длинных сигарет с ментолом.
Холод становился все ощутимее, и я почувствовал, что мороз постепенно начинает пощипывать мочки ушей.
Над «Известиями» по световому табло поплыли цепочки слов, передавая последние новости. Табло было черным и сливалось с уже совершенно потемневшим небом, поэтому казалось, что слова возникают как бы из пустоты и, пройдя положенное им расстояние, снова проваливаются неизвестно куда.
Какие-то рабочие открыли новую буровую, на Ближнем Востоке все бушевали беспорядки, США вновь наложили на кого-то санкции, с успехом прошли гастроли нашего ансамбля в Испании, в германском зоопарке родился гиппопотам, что еще раз подтверждало возможность размножения этих животных в неволе. Погода назавтра ожидалась хорошая: 9-12 градусов мороза, без осадков, ветер северо-западный, 1–3 метра в секунду.
Потом табло на некоторое время погасло, а чуть позже пошла реклама.
Повернув голову влево, я увидел, что женщина по-прежнему сидит на том же месте. Все было как несколько минут назад.
Откровенно говоря, я тогда уже совершенно потерял надежду, что увижу, кого она ждет, и интерес к ней у меня почти пропал. Однако по инерции я продолжал наблюдать. Помню, я еще подумал, что она очень недурна собой и что у того малого, которого она вот уже минут сорок как ждет, губа не дура. Тут я увидел, что женщина открыла сумочку и достала оттуда зажигалку. Сигарету она вынула раньше, очевидно, тогда, когда я смотрел на табло. Руки у нее заметно дрожали, и зажигалка ни за что не хотела включаться. Наконец показался колышущийся конус пламени, и когда огонь, поднесенный на мгновение к кончику сигареты, осветил ее лицо, я вдруг увидел, что она плачет. В следующий момент огонек погас, и слез снова не стало видно.
Я отвернулся. Внезапно мне сделалось стыдно ее слез: будто я через щель между занавесками или в замочную скважину подсмотрел то, что меня совсем не касалось. Я уже хотел пересесть, но женщина встала и направилась к метро. Посмотрев ей вслед, я вдруг увидел, что она беременна, и смутно почувствовал к ней нечто вроде отвращения. Романтическая влюбленная на поверку оказалась просто брошенной бабой. Скоро синее пальто совершенно затерялось в толпе, и я остался один.
Какой-то парень, подошедший со стороны кинотеатра, уселся на лавку рядом со мной. Открыв дипломат, он извлек оттуда журнал «Химия и жизнь» и пакетик жареного картофеля. С шумом вскрыв пакет, парень громко захрустел, поглощая один за другим жареные ломтики, в то же время другой рукой стараясь что-то отыскать в журнале.
Сидеть на лавке становилось холодно.
Встав, я медленно побрел по скверу. Торопиться было некуда, да и незачем.
Вокруг опять засуетились в нелепом и немом хороводе люди, быстро и однообразно сменяя друг друга, как кадры на кинопленке.
Выйдя из сквера на улицу, я отправился в сторону «Маяковки», то есть туда, откуда полтора часа назад пришел.
Отчего-то было досадно.
Надо сказать, что на протяжении всего того времени, которое я теперь описываю, меня до самой последней минуты не покидало ощущение какого-то тягостного ожидания. Будто вот-вот должно было что-то произойти, а что именно, я и сам не знал толком. В университет я не ходил уже с неделю, и, вполне вероятно, причиной подобного состояния было именно то пугающе-захватывающее чувство полной свободы, которое совершенно внезапно мной овладело. Ощущение пустоты, ненужности и незанятости сменилось уверенностью в приближении чего-то неизбежного и вместе с тем важного. Хотя, вполне вероятно, что подобные выводы я делаю лишь сейчас, задним числом. Впрочем, опять это может лишь казаться и опять-таки именно сейчас. В любом случае, я не могу думать так, как думал тогда. События изменяют людей, и то «я», что было, к примеру, вчера, уже совершенно не то, что сегодня. А завтра оно изменится еще больше, не говоря уж о том, что будет через неделю. Поэтому я думаю, а стало быть и пишу в любом случае уже не то, что думал или писал бы тогда, если бы мне вдруг пришла в голову фантазия заняться подобным делом.
Путаница какая-то. А в общем, это не так важно.
Подробности следующего часа моих скитаний по улицам я позабыл. Помню только, что пристал к какой-то рыжей девице знакомиться, а та выпендривалась и корчила из себя кинозвезду, делая вид, что ей неприятны или в лучшем случае безразличны мои домогательства, хотя при этом она не только не пыталась уйти, но, напротив, довольно долго шла со мной вместе, так что у меня даже создалось впечатление, что ей было совсем не в ту сторону. Под конец она сказала, что она замужем, на что я ей возразил, что она, должно быть, совсем недавно замужем, так как все еще вставляет это в разговор, когда ее об этом не спрашивают. На это она обиделась и телефона не дала, хотя, может, и сделала бы это, поупрашивай я ее подольше. К тому времени она мне уже порядком надоела, и я вдруг, сам хорошенько не зная зачем, обозвал ее дурой и крашеной выдрой. Потом сказал, что пусть она не выпендривается, будто все это ей неприятно, даже будь она трижды замужем. А если это действительно так, то почему она не уходит, а разыгрывает из себя утомленную мужским вниманием примадонну.
В ответ она мне, когда я уже уходил, прокричала какую-то совершенную гадость, с чем, собственно, мы и расстались. Как сказал классик, бессмысленно и беспощадно.
Надо сказать, у меня был один приятель, который очень любил проделывать подобные эксперименты. Что-то вроде хобби имел такого. Имя его было Алексей, или, как звали у нас его все между собой для краткости – Алекс. Учился он в Щепкинском, а подобные сценки почему-то именовал «расколами». Причем, по-моему, это было его любимое занятие, так как мастерства в нем он достиг неимоверного. Я же участвовал в его экспериментах постольку поскольку ему была необходима аудитория. К тому же мне постоянно в спорах, которые неизбежно на этот предмет возникали, приходилось исполнять роль оппонента, так что под конец мной овладевал даже какой-то азарт: а что если на этот раз не получится? Хотя, должен признаться, мне ни разу не посчастливилось присутствовать при том, чтобы Алекс засыпался. Как-то раз он мне даже прочитал нечто вроде лекции по этому поводу, несмотря на которую я так до сих пор и не понял, каким образом люди могли попадаться на такую наглую и совершенно откровенную ложь. Алекс говорил что-то об инерции мышления и что человек начинает анализировать, думать, только тогда, когда видит какое-то несоответствие. Если его нет, мыслительный аппарат работает вполнакала, а то и совсем отключается, как бы переходит на «автопилот». И вот если ты сам не дашь это несоответствие, то все будет нормально. Собеседник твой благополучно «проспит» и поверит даже в то, что ты – папа Римский, очутившийся в Москве по случаю, пролетом из Рима в Ватикан.
Не знаю, может так оно и есть, а может и нет.
Мне во время своих экспериментов Алекс всегда говорил, чтобы я особо не встревал, так как у меня «глаза смеются» и, соответственно, поэтому ничего не выйдет. «Даже старик Станиславский сказал бы свое банальное „не верю“», – добавлял он и округлял глаза так, что в следующий момент они переставали вообще что-либо выражать.
Помню, один раз в метро он, подсев к какой-то девице лет двадцати трех, сидевшей напротив, принялся на ухо ей что-то горячо нашептывать. На лице той выразилось удивление, но потом она вдруг заулыбалась и начала почему-то лукаво поглядывать в мою сторону. Подобные выходки Алекса меня всегда раздражали, поэтому я делал вид, что мне на это наплевать, и смотрел в другую сторону. Позже выяснилось, что он сумел убедить ее, что я глухонемой араб, сын арабского же миллионера, а он, то бишь Алекс, мой поводырь и переводчик, что она мне якобы очень понравилась и что я хочу с ней познакомиться и пригласить с собой на дипломатический вечер. Через две остановки они действительно подошли «знакомиться», и мне не оставалось ничего другого, как с кислой миной разыгрывать роль глухонемого араба. Алекс переводил с русского на «глухонемой арабский», причем делал иногда настолько неприличные жесты, что после каждого из них я ждал неминуемого разоблачения. Однако девица хихикала, заискивала и маслянисто строила мне глазки, а когда Алекс, сказав, что оставил визитки в кармане смокинга, накорябал на клочке бумаги наш гостиничный номер телефона, та выпрыгнула из вагона, сияя, как новенький пятак, заверив, что позвонит сегодня же.
В другой раз он пристал к какой-то женщине лет тридцати пяти, долго говорил с ней о величии искусства, выдавая себя за скульптора, пока она клятвенно не заверила его, что будет ездить к нему тайком от мужа и позировать обнаженной.
Одного мужика он заставил дать целое интервью какому-то турецкому листку, корреспондентом которого представился и название которого выдумал там же, на ходу.
Были еще две девицы, которых Алекс совершенно жутко напугал, пригласив в кафе, и одной из них во время танца ляпнув (строго так), что мы из контрразведки и следим за типом, который сидит за соседним столиком. Через два стола в другую сторону сидел какой-то грузин, и Алекс сказал, что сегодня его будут брать, так как он тоже связан с тем типом. А когда в конце он предложил девкам подвезти их на машине, которая вот-вот должна подойти, те так искренне стали отнекиваться и говорить, что им совсем недалеко и что они лучше пешком дойдут, что мне пришлось выйти якобы в туалет, а не то я бы точно лопнул от хохота.
И так далее, все в том же духе.
Хотя, надо сказать, временами он мне смертельно надоедал, и я буквально доходил до бешенства, когда Алекс снова и снова приставал к людям. Однако вида я не показывал, так как, с одной стороны, это было бы просто глупо, а с другой – я совсем не хотел оказаться в числе его жертв. Один раз я дал возможность вырваться неудовольствию наружу. Алексу это, видимо, показалось забавным, и следующей жертве он представил меня как заядлого гомосексуалиста, имеющего плюс ко всему еще и садистские наклонности. Я тогда ушел, и мы долго после этого не встречались.
Несколько раз я сам пробовал проводить подобные эксперименты. Помню, мы с одним парнем прикинулись иностранцами, а так как я изучал английский, а он немецкий, то так и общались: я ему говорил фразу на английском, а он отвечал мне на немецком. Дело происходило в автобусе, была вторая половина дня, и народу набилось достаточно. У окна сидела какая-то симпатичная дура, и мы принялись громко нести тарабарщину, указывая на нее пальцами. Люди вокруг оживились и как-то даже снисходительно заулыбались: «Иностранцы». Дура у окна покраснела, и тут я увидел, что одна из ее рук медленно наползла на другую. Вначале я не понял, но потом увидел, что она закрыла обручальное кольцо.
Как-то раз Алекс сказал мне, что вообще среди всех человеческих чувств нет ни одного, которое было бы сильнее желания заставить других плясать под свою дудку. Особенно посторонних. В том-то вся и соль. Только у одних это получается, а у других нет. «Здесь нужно иметь!» – Алекс выразительно постучал себя пальцем по лбу и пояснил, что, мол, для успешного завершения дела необходимо правильно нащупать ту мелодию, под которую этот человек непременно должен будет плясать. Отгадать ее. А тогда не зевай и жми вовсю на клавиши своего кларнета (то, что он сказал «кларнет», я точно запомнил) – и послушные марионетки будут выделывать, что ты захочешь.
Надо сказать, что Алекс, – и этого я никак не могу понять, – мог как-то безошибочно угадывать тот ключ, в котором нужно было вести разговор с тем или иным человеком. С одной он, например, говорил об НЛО и гипнозе и развивал какие-то чудовищные космогонические теории, так что вполне можно было поверить, что перед вами шизофреник, только что сбежавший из психбольницы, другой врал об искусстве, третью осаждал рассказами об извращенцах и т. д.
Помню, однажды мы зашли в кафе. Просто посидеть и поболтать. Народу было не так много: дело было днем, однако за соседним столиком сидели две какие-то, как выразился Алекс, «мочалки». Однако, как ни странно, подсаживаться и приставать к ним он не стал. Мы заказали кофе с мороженым и принялись вести пространный разговор. После нескольких не слишком гладких переходов разговор свелся к тому, к чему сводился всегда. Споря, я даже вошел в азарт. Алекс, кажется, тоже разошелся, и тогда он вдруг предложил подсесть к тем двум и представиться иностранцами. Я на это ему возразил, что они сидят от нас не так далеко и наверняка слышали обрывки разговора, так что его затея заведомо обречена на провал. Он усмехнулся и предложил поспорить. «На три щелчка, как Поп с Балдой», – сказал он и, таким образом щегольнув знанием русской классики, подсел к девицам.
Разговор тут же завязался. По выражению лиц «мочалок» я видел, что они догадались, однако игру приняли и, казалось, даже с интересом слушали глупую болтовню Алексея, выдаваемую им по-русски довольно бегло, но с изрядной долей «иностранного» акцента.
Девицы явно издевались и довольно-таки ехидно переглядывались.
Алексей, как будто ничего не замечая, продолжал нести чушь.
Видя, что их ужимки не производят запланированного впечатления, «мочалки» принялись задавать вопросы. И вот на одном-то из них и произошло самое удивительное.
Девица, улыбаясь, спросила:
– Ну и где же вы живете?
На что Алекс вдруг совершенно неожиданно ляпнул:
– Где? Здесь.
– Как здесь? – удивилась та, сбитая с толка.
– Ну, здесь, в Москва, – глядя ей в глаза непонимающим взором, сказал Алекс. – Я плохо говорить по-русски? Мы студенты.
Почему вдруг после этого они действительно поверили, что мы иностранцы, я не понимаю до сих пор. В продолжение последующего разговора Алекс, очевидно, чтобы рассеять последнюю тень недоверия, раза два прерывал собеседниц на каком-нибудь совершенно банальном слове и просил повторить его, если им не трудно, а то он не понял. Те с удовольствием это делали. Позже, спустя несколько дней, на вопрос, почему так все произошло, Алекс сказал, что просто они очень хотели поверить, что мы иностранцы, – и поверили. А он всего лишь заставил их захотеть. Вначале то, что они так глупо попались, меня ужасно разозлило, и на какой-то вопрос одной из них, обращенный прямо ко мне, я угрюмо буркнул: «Ай спик рашн бэд», после чего неоднократно об этом жалел, так как «переводчик», к помощи которого теперь приходилось прибегать, совершенно безбожно перевирал и коверкал смысл моих фраз. Что касается проигранного мной пари, то все три щелчка я получил тогда же. Перед тем, как всыпать мне первый из них, Алекс что-то нашептал девицам, и те заулыбались, а он щелкнул меня пальцем по лбу. Девицы принялись хихикать, и одна из них погрозила мне пальцем. Потирая лоб, я глупо ухмыльнулся в ответ. Позже я выяснил все же, что он им сказал. А сказал он им следующее: будто я вчера пришел домой в третьем часу ночи и не убрал комнату, хотя была моя очередь, и теперь он мне должен отбить сто щелчков, так как щелчки у нас являются мерой дисциплинарного взыскания. «Ведь это очень по-русски, да?» – спрашивал Алекс «мочалок» и с идиотской пытливостью в глазах ждал ответа.
После третьего щелчка «мочалки» стали умолять Алекса пощадить меня, на что он милостиво согласился.
В конце мы от них сбежали, так как они требовали адреса или телефона. Да и надоели они очень. Сбежали мы от них возле Петровского пассажа и, миновав подземный переход, сели в такси. Шоферу, видимо, было лет пятьдесят, а когда Алекс, будто по инерции, продолжая говорить с акцентом и вкраплением английских фраз, стал объяснять ему, куда нужно ехать, тот, подняв руку и сомкнув большой и указательный палец в виде «нолика», сказал «о’кей!», что в переводе, видимо, означало: «Будь спокоен, уж мы-то свое дело знаем не хуже, чем там у вас».
После этого у меня отчего-то испортилось настроение, и я даже сказал Алексу что-то грубое, на что тот не обратил никакого внимания, думая, или, по крайней мере, делая вид, что думает о чем-то своем. Это меня разозлило еще больше, и я вылез из такси.
С Алексом мы не виделись уже месяца два. Да, откровенно говоря, не очень-то и хотелось. У меня после его экспериментов всегда на душе оставался какой-то мутный осадок, но что это были не угрызения совести, я знал наверняка…
Эпизод с рыжей девицей тоже не способствовал улучшению моего настроения, которое и без того было неважным.
Дойдя до Калининского, я некоторое время постоял перед световым табло с рекламой, потом хотел было зайти в «Дом книги», но вспомнив, что он уже, должно быть, закрыт, повернул в обратную сторону.
Подул ветер, сметая с крыш колкие крупинки снега.
Внезапно я снова почувствовал голод и в очередной раз вспомнил, что с утра ничего не ел. Поблизости было кафе, и я зашел. Позже я много думал над тем, почему завернул тогда именно в то кафе, и что было бы, если бы я туда не пошел. Скорее всего, ничего не было бы. Или было, но что-то другое. Хотя кто знает.
Стеклянные двери от толчка открылись, и улица, отраженная в них, качнувшись, ушла в сторону. Я вошел. Видимо, здесь недавно был ремонт, так как все еще слабо пахло краской.
Холл был довольно просторным. По бокам висели большие зеркала, около которых я увидел несколько охорашивающихся девиц. Стены из известковых плит, оформленные под мрамор, еще недостаточно пообтерлись и создавали впечатление чего-то торжественного и недвижимого. Как новый стол в кабинете у нотариуса.
Чуть дальше дверей начинался ковер темно-красного цвета, местами сильно потертый и вылинявший, чем весьма неприятно контрастировал с новой отделкой.
Слева была лестница, ведущая на второй этаж. Под ней располагались, как и положено, туалеты.
Швейцар принял мою одежду, и я поднялся на второй этаж, думая о том, что у меня всего наберется рублей десять, не больше. Дома денег тоже не было, и я вдруг из какого-то непонятного чувства противоречия решил сейчас же, сегодня, истратить все до копейки. От сознания принятого решения настроение улучшилось, и я осмотрелся.
Несмотря на будний день, народу здесь насчитывалось достаточно. Атмосфера была душной, многие курили прямо за столиками. Вентиляция, судя по всему, не работала. Музыка, смешиваясь с гулом голосов, создавала общий шумовой фон, а неяркий красноватый свет – общую размытость очертаний и какую-то аморфность движений. Несколько пар в середине танцевали.
Я занял место в углу, вдалеке от эстрады.
Официант два раза прошел мимо, но так и не соизволил остановиться. Тогда я сам подошел к нему и заказал бифштекс и фужер шампанского. Тот даже не посмотрел в мою сторону, но при этом, ручаюсь, все прекрасно слышал.
Я сел на место и от нечего делать принялся изучать меню. Вскоре мне это надоело, и я стал осматриваться по сторонам. Тоже ничего интересного. Только недалеко, через два столика, сидела какая-то довольно симпатичная блондинка и меланхолично помешивала соломинкой льдинки в коктейле. На вид ей было лет двадцать. Я принялся машинально подыскивать, кем было бы лучше ей представиться, если подойти знакомиться. Хотя делать этого и не собирался. Просто было приятно сидеть и думать об этом.
Она сидела ко мне боком, и я не отрываясь смотрел на нее, наверняка зная, что боковым зрением она видит это и что рано или поздно посмотрит в мою сторону. Так, невзначай, повернет голову, скользнет по мне рассеянным взглядом и повернется дальше, чтобы показать, что оборачивалась не на меня.
Так все и произошло. Я чуть не рассмеялся: настолько томными были ее поза и вид. Похоже было на то, что на ней нет лифчика, и она не переставая думает об этом. Я представил, как она прямо-таки обмирает от одной мысли, что ее щупают взгляды близсидящих мужчин. Это немного развеселило.
Официант принес шампанского, и я отпил глоток. Было тихо.
Внезапно сзади кто-то начал о чем-то громко разглагольствовать. Я обернулся. Витийствовал худой, изогнутый знаком вопроса тип в желтых штанах и прыщом у основания носа. Типичный задрот. Рядом сидели две девицы и некий мрачный субъект с насупленными бровями. Прошло минут пять. Задрот не умолкал и начинал действовать на нервы.
Я опять посмотрел на блондинку. Та продолжала искоса наблюдать за происходящим вокруг. Как стрекоза – почти на 360 градусов. Я уставился на нее. И опять получилось: она обернулась, однако радости, как в прошлый раз, мне это не доставило. Она мне вдруг кого-то напомнила, но я никак не мог понять кого.
Я опять отпил из бокала. Шампанское было дрянное. Кислое. Правда, его качество в какой-то мере компенсировало то, что оно было холодным.
Блондинка определенно чем-то напоминала кошку. Это пришло как-то внезапно, сразу. Кошка. Жестами, манерой, самими повадками. Даже будто в самой внешности было что-то кошачье. Я попытался развить эту мысль в интимном ключе, но потом не стал.
Задрот сзади наконец умолк и пошел танцевать с одной из девиц, так что его согнутая фигура в желтых брюках теперь маячила где-то возле эстрады.
Блондинка по-прежнему гоняла льдинки соломинкой в коктейле, и я снова стал смотреть. Она обернулась, сделала гримасу и, закатив глаза, повернулась в противоположную сторону. Это значило «надоел».
Я вспомнил о кошке, и мне стало противно. Тем более как именно будет происходить дальнейшая игра, я знал с точностью до десятой доли процента.
Мне принесли бифштекс, и я принялся за еду. Было скучно.
Внезапно я понял, кого именно мне напомнила блондинка. Не кошку, нет. Я вспомнил, как в девятом классе в первый раз имел дело с женщиной. В ней тогда тоже было что-то кошачье, и это меня тогда еще как-то неприятно поразило. Что-то животное было во всем этом: и в том, как она кричала и как царапала ногтями мне грудь, в прерывистом дыхании и судорожных движениях гибкого тела. Помню, мне еще тогда в голову лезли какие-то совершенно посторонние мысли, и я старался отогнать их, чтобы сосредоточиться на текущем моменте. Однако сделать этого почти не удавалось, и ничего кроме разочарования и недоумения я в результате не испытал. Позже мы встречались еще несколько раз, но в конце концов все прекратилось: она была замужем, и я постоянно боялся, что муж нас застукает. Вспоминать это было неприятно, и я решил переключиться на что-нибудь другое.
Блондинка сидела все в той же позе. Постепенно меня начало раздражать то, что она следит за мной краем глаза, и я пересел на другой стул, очутившись по отношению к ней в профиль.
Доев бифштекс и, таким образом, почти исчерпав свой червонец, я достал сигареты и закурил.
О том, что я буду делать дальше, я не имел никакого представления, и мысли об этом тщательно отгонял в сторону, стараясь думать о чем-нибудь постороннем.
Я представил свою близость с блондинкой – отчего-то вдруг это нарисовалось очень отчетливо – и, почувствовав омерзение, снова впал в мрачное расположение духа.
Подняв глаза, я зачем-то принялся отыскивать взглядом типа в желтых брюках, но он куда-то пропал вместе с девицей, с которой до того танцевал. На минуту мне показалось, что в толпе я увидел кого-то из знакомых, но потом, сколько ни вглядывался в полумрак, не смог найти его вновь. Наверное, показалось.
Я встал и, пройдя между столиками, спустился на первый этаж. Там был телефон, и я принялся набирать номер той самой Левиной Марины из записной книжки. Наушник был, видимо, не совсем исправен, так как когда я нажимал кнопки, в нем начинало что-то трещать. Я набрал номер, и на другом конце провода раздались гудки. Сквозь них пробивался, словно издалека, чей-то разговор. Гудки следовали один за другим, но никто не подходил. После седьмого гудка я повесил трубку.
Поднявшись наверх, я увидел официанта, который был явно обеспокоен моим отсутствием. Он спросил, буду ли я чего-нибудь заказывать, а когда услышал, что нет, предложил рассчитаться.
Расплатившись, я встал и направился к выходу. Настроение у меня испортилось еще больше, и я решил уже было совсем ехать домой, но как раз тут случилось то, что положило начало тем событиям, которые имели для меня столь важные последствия.
А дело было вот в чем. Пробираясь к выходу, я внезапно увидел за одним из стоявших невдалеке столиков то самое знакомое лицо, которое высматривал в толпе минутами десятью раньше.
Это был некто Чернецкий, с которым я был когда-то хорошо знаком и с которым не виделся где-то полгода. Сидел он ко мне вполоборота, но я его сразу узнал. На нем был светлый костюм и бежевый галстук с полосой. Из кармана торчал уголок носового платка, и я еще подумал, чего это он так вырядился.



