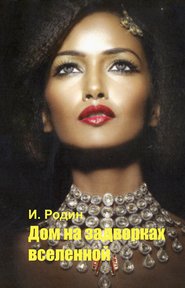
Полная версия:
Дом на задворках вселенной

И. О. Родин
Дом на задворках вселенной
Роман
© И. О. Родин, 2014
Искусный мастер не оставляет следов.
Кю дзо си1
Сегодня самый обыкновенный день. Среда. Хотя то, что сегодня среда, само по себе еще ни о чем не говорит. Как и то, что вчера был вторник. Все это очень условно: дни ничем друг от друга не отличаются, как и завтра ничем не будет отличаться от сегодня, хотя, может быть, завтра я и буду в это время думать о чем-то другом. Об отношении материи к разуму, о бесконечности Вселенной, смысле жизни, или о том, носит ли лифчик новая медсестра. Это решительно не имеет никакого значения, о чем я буду думать. Просто здесь я много думаю.
А сегодня самый обыкновенный день. Так что если начинать повествование классически, то вполне можно написать: «Был самый обыкновенный день, один из тех, которые принято называть „будни“…», или: «Это был самый что ни на есть заурядный день, который только тем и запомнился, что ничем не выделялся из общей массы дней, серых и однообразных, а если и был примечателен, то только тем, что не внес абсолютно ни во что никаких изменений…» Затем обязательно бы следовало придумать для читателей какой-нибудь неожиданный ход – и дело, как говорится, в шляпе.
Кстати, чего не могу терпеть, так это писать классически. Поэтому буду это делать как придется: то есть о чем буду думать, о том и напишу. Это, конечно, вовсе не значит, что у меня нет никакого плана. Есть, а то с чего бы мне вообще затевать всю эту канитель. Просто не буду себя заранее сковывать какими-либо рамками, мало ли какие мысли неожиданно по ходу дела возникнут. Одно лишь могу обещать твердо: постараюсь последовательно и честно описывать события, к которым имел непосредственное отношение, а уж какой вывод из них сделать, пусть каждый решает для себя сам.
Итак, сегодня самый обыкновенный день. И это-то странно. Дело в том, что у меня сегодня день рождения. Но кроме меня об этом никто не знает. И не узнает, потому что я этого не хочу. Уверен, что от всех этих неловких, вымученных поздравлений, причем совершенно чужих мне людей, я вряд ли приобрету нечто ценное. Да и вообще, не понятно, для чего в такой день люди обычно тратят уйму сил и времени на соблюдение абсолютно ненужных условностей, в то время как гораздо логичнее было бы подводить итоги очередного прожитого года в одиночестве, наедине с самим собой. Шум не дает возможности сосредоточиться. Хотя, может именно для этого люди и затевают все эти «мероприятия» – просто чтобы не думать о главном.
С утра было пасмурно, и от окна, к которому я не помню зачем подошел, несло холодом. Некоторое время я смотрел на запущенный грязный двор, на растопыренные ветви деревьев с набрякшими на них почками и забор, тянущийся за палисадником.
Оторвавшись наконец от окна, я застелил койку. Затем почистил зубы и умылся в раковине, которая находилась здесь же, в комнате. Как только я включил воду, по отдающей желтизной поверхности резво побежали два таракана. Вчера приходили какие-то типы и говорили, что будут их морить, впрочем, не уточнив, когда именно.
Кончив умываться, я согрел себе чаю и выпил два стакана. Чай был старый и едва заметно отдавал кислятиной, а заварить новый мне было лень. Потом я сел на стул у окна и закурил. Вообще-то курить не разрешалось и из-за этого у меня могли быть неприятности. Меня уже два раза предупреждали. А, в общем, какие там неприятности! Основная неприятность состоит в том, что я здесь. Хотя я почти привык. Ко всему рано или поздно привыкаешь.
Я уже говорил, что я здесь часто размышляю над разными вещами. Философствую. Времени хватает. Поэтому мысли мои носят в большинстве абстрактный характер, общий. Правда, после того, что произошло и что я как раз хочу описать, мысли мои находятся все еще в несколько беспорядочном состоянии.
Через час пришла медсестра и опять выговаривала мне, что в плате курить не положено. Злая. Наверное, старая дева. Халат нараспашку, а на кофте вырез чуть ли не до пупа. Лифчик носит и, как мне показалось, даже в него что-то подкладывает. Сказала, что выпишут через неделю. Врет. Просто хочет показать, что много знает, а сама дура дурой: путает седуксен и тазепам. «Главное, – как заметил парень из соседней палаты (по-моему, он финансист), – чтобы она однажды не спутала депозитарий и суппозиторий». Весельчак. Его тут все обожают.
Вначале я хотел намекнуть медсестре, что у меня день рождения, но потом раздумал. Пусть катится по своим делам.
Через несколько минут она ушла. Я снова подошел к окну и раскурил затушенный было бычок.
Нет, все-таки наверняка так много курить вредно. Сколько раз бросал – все впустую. Наверное, я слабовольный. Мне вспомнился хрипящий астматический кашель нашего соседа с нижнего этажа. Сколько помню, все время видел его курящим на лестничной клетке, как если бы он там обитал.
Солнце тем временем выглянуло из-за туч и начало пригревать. Скоро оно окончательно вылезло и расплылось в небе, напоминающем промокашку, желтым бесформенным пятном. Будто на салфетку пролили мандариновый сок. Этакий масляный блин, лоснящаяся толстая харя, от которой по стеклу расходятся круги, как на картинах Ван Гога.
Недавно мне тут один тип говорил, что все на земле происходит от разных изменений на солнце, то есть что мы всего лишь одно из проявлений его активности. Войны, болезни, даже спортивные рекорды – все делается на солнце. Вспышками, протуберанцами, пятнами разными – ну и все в таком роде. Вот, может, и сейчас там что-нибудь такое вспыхнуло, и я поэтому сижу на подоконнике и курю. Я-то, конечно, думаю, что это я сам, а на самом деле это там, на солнце, температура в десять миллионов градусов. Может быть. Хотя не все ли мне равно, сам я курю или нет? Достаточно того, что я думаю, будто сам.
На завтрак я не пошел: есть не хотелось. Сосед мой по палате, пожав плечами, ушел трапезничать, прихватив с собой приемник. Вообще-то это соседство доставляет мне не слишком много неприятностей. Хотя было бы еще лучше, если бы он не приставал ко мне с разговорами о футболе и не храпел ночью, как боров.
Надо признать, здесь довольно сильная акустика, и по ночам я даже слышу, как кто-то стонет в женском отделении. А когда медсестра начинает делать обход, я слышу приближение шагов издалека. Они далекие и гулкие, эти шаги. И когда я слышу приближение этих отрывистых чередующихся звуков, мне почему-то становится страшно. Умом я, конечно, понимаю, что все это глупо, но внутренне не могу отделаться от впечатления, что на пороге вот-вот должно появиться что-то неожиданное и ни на что не похожее – какой-нибудь монстр, инопланетянин или что-нибудь в этом роде. И тогда я прячу книгу и фонарь и жду. Шаги становятся громче, и меня постепенно все больше захватывает странное чувство: какой-то восторг, трепет, перемешанный со страхом и сознанием собственного бессилия перед этими приближающимися шагами. Потом появляется медсестра, и все проходит.
Я об этом сдуру рассказал соседу по палате. Он только ухмыльнулся и посоветовал обратиться мне к психиатру, на что я его в ответ обозвал козлом. Чуть не подрались. Он кричал, что я сопляк и что он мне еще покажет. Короче, ничего хорошего не вышло, один скандал. А может, он и прав, что у меня нервы не в порядке.
Я еще немного постоял у окна, а потом сел писать письмо. Приблизительно через полчаса сосед снова заглянул в палату, чему-то усмехнулся (вот тоже гнусная манера), увидев меня с разложенными листками, и укатил восвояси на своих кавалерийских растопырках. Не иначе в фойе – футбол смотреть.
Письмо не шло.
Отчего-то вспомнилось, как вчера в одной из палат умерла старуха, и я видел, как ее вывозили на тележке в «холодильник». Какой-то подросток помогал санитару перевозить тележку и улыбался, чтобы показать, что он не боится покойников. Старуха была накрыта простыней, ткань плотно облегала тело, и можно было различить огромный, раздувшийся, словно от водянки, живот и худые, непропорционально маленькие ноги. Простыня была короткая, и голова, не закрытая ею, расслабленно болталась от покачиваний тележки. В коридор вышел народ посмотреть. Я вначале тоже стоял, но после ушел в палату. Что-то неприятное было во всем этом.
Примерно через час я все же разделался с письмом и, запечатав конверт, положил его на тумбочку, чтобы потом не забыть отправить. Выкурив последнюю сигарету, я его порвал. Пусть уж лучше все остается как есть. И движется своим чередом.
Хорошо, что удалось уговорить врачей ничего не сообщать предкам. Врачи должны делом заниматься, а не корреспонденцию развозить. К тому же предков моих это, прямо скажем, мало касается. Из университета меня, наверное, теперь вышибут, а им знать об этом совсем не обязательно. Да и, думаю, им это будет не очень-то интересно. Конечно, они приедут и все такое, будут разыгрывать любящих родителей, потому что положено, хотя это, если разобраться, никому не нужно – ни им, ни тем более мне. Пусть гуляют себе под ручку где-нибудь по Монмартру или где они там. Я уже давно привык обходиться.
Своего родного папашу я не помню, да, откровенно говоря, мало жалею об этом. Хотя сказать «совсем не помню» будет неверно. Отдельные моменты всплывают в памяти, но они очень незначительны и слишком отрывочны для того, чтобы я мог по ним составить какую-либо определенную картину. К тому же на них впоследствии наслоилось столько всего, что они померкли и стали гораздо менее отчетливы.
Почему-то хорошо запомнил, как вместе с родителями покупали телевизор. Отец вез его в моей бывшей коляске домой, а я бежал рядом и разглядывал кнопки и переключатели на задней панели. Было где-то часа четыре дня, и ярко светило солнце. Интересно, что вообще в моих воспоминаниях о детстве почему-то всегда светит солнце. Хорошо помню палисадник вокруг нашей пятиэтажки, заросший огромными разноцветными маргаритками, ноготками и какими-то ярко-желтыми шарами, казавшимися мне тогда гигантскими. Смутно помню какие-то заброшенные сады, оставшиеся от дачных участков и деревень, которые как раз тогда начал теснить город, футбольное поле на пустыре перед домом, на котором после дождя вырастали огромные белые грибы, со временем превращавшиеся в коричневые кожистые мешочки с «дымом» и носившие забавное название «дедушкин табак». Помню запах смородины, терпкий вкус китайских яблочек и незрелых слив… Да, странно это все. Ведь и в самом деле, не могло же тогда постоянно светить солнце!
Помню, как на следующий день после покупки телевизора к нам пришел мастер, и я подавал ему гвозди, когда он протягивал шнур для антенны. Телевизор потом долго работал. Теперь он стоит в квартире деда, если только не выбросили. Там у них много всякого старого хлама. Дед давно умер, и в квартире живет только его жена, мама отца (хотя и этого теперь наверняка я не знаю). Раньше они жили в домике за городом, особенно в последнее время. А их городская квартира обычно пустовала. Только потом, когда старый деревянный дом пошел на слом, отцовская мать перебралась сюда, в город, окончательно.
Перед смертью дед долго болел. У него был рак, и он знал, что скоро умрет. Правда, врачи ему не говорили об этом, но он догадался. За месяц до смерти он сделался вдруг как-то очень сентиментален. Часто ходил в лес с книжкой, иногда на весь день (когда его не мучили боли) уплывал куда-то на лодке, а потом построил беседку в саду, этакий «храм уединенного размышления», где часто по вечерам сидел. Я тогда любил бывать с ним, так как он мне делал свистульки из дерева и обещал меня этому научить. Не знаю, не люблю почему-то все это вспоминать. Неприятно. Может, фобия такая, связанная со смертью, а может потому, что совесть не на месте… Просто потом, уже много времени спустя (я учился классе в девятом) как-то раз в разговоре, а точнее, в перепалке с матерью, обозвал это слюнтяйством и толстовщиной. Потом я и сам удивлялся, что это на меня нашло, но забыть не забыл. Мать меня, помню, поругала, но мне показалось, что она была довольна.
А тогда жить деду оставалось уже меньше месяца, и он, помню, мне все что-то говорил, говорил, а я сидел и старательно дул в свистульки. Под конец я на него разозлился и сказал, что он обещал меня научить делать свистульки, что мне скоро уезжать, а он до сих пор не выполнил обещанного.
На следующий день дед научил меня выстругивать свистульки, а кроме того, подарил маленькую детскую гармошку, которую еще через два дня я разломал, пытаясь выяснить, как в ней получается звук.
Потом мы уехали. А месяц спустя бабка осталась одна, и мы помогали ей перевезти вещи на городскую квартиру.
Я у нее уже давно не был: она меня не узнает. И говорит какие-то странные вещи. Мать сказала тогда, что она больна и чтобы я к ней не ходил. Однако я приходил потом еще раза два, но двери никто не открыл, и похоже было на то, что в квартире никого не было.
Итак, как я уже говорил, отца я почти не помню, однако, по словам бабки, к которой в детстве меня регулярно сплавляли по воскресеньям, это был сущий ангел во плоти, которого испортила жена, то есть моя мать.
Мама говорила, что он пил. Хотя бабка, как-то в очередной раз ругаясь с ней, упомянула о каких-то письмах и фотографии, которые у нее якобы когда-то увидел отец. Насколько помню, мать ее тогда прервала и сказала, что не век же все помнить и что все уже давно быльем поросло. Мне показалось, что ей не понравились бабкины слова. Она вообще всегда бабку не любила, хотя теперь это, конечно, все равно.
Поле смерти отца я подолгу жил у бабушки, и мама навещала меня. Каждый день она бывать не могла – она говорила, что у нее много работы и что я уже взрослый и поэтому должен быть самостоятельным, а она должна работать, потому что ей надо содержать семью.
Об отце она не рассказывала и не любила, когда ее спрашивали об этом. А когда я спрашивал, говорила, что он пил. Помимо всего прочего, у меня был еще один источник, откуда я мог черпать сведения: к бабке часто заходил дядя Валера, друг отца, или как он себя по крайней мере называл. Он любил поболтать со старухой и вспомнить покойничка, его дружбу с ним. Посидев с полчаса, он, как правило, занимал у бабки трешку и уходил. Не знаю, отдавал ли он потом деньги или слово «взаймы» здесь было лишь условностью, но лично я ни разу не видел, чтобы он вернул хотя бы одну трешку из тех, что занимал. Заходил он где-то в среднем раз в неделю, обычно по субботам, а я его не любил. От него пахло спиртным, и еще он постоянно, пока рассказывал, шмыгал носом и, похлопывая меня по плечу, приговаривал: «Орел! Ну вылитый батя!». При этом он смотрел на меня и улыбался, а я все время чувствовал, что он ждет момента, когда бабка подобреет и у нее можно будет стрельнуть трешку.
К отчиму я привык. И довольно скоро, как можно привыкнуть, скажем, к мебели. Мать вышла за него спустя полгода после смерти моего достопочтенного родителя и чуть не молилась на этого хмыря. До сих пор удивляюсь, как ей удалось окрутить такого сноба. А впрочем, это ее дело. Он в министерстве какая-то важная шишка и только и делает, что разъезжает по заграницам. Мать заваливает всевозможным тряпьем и косметикой, которой та посвящает не менее трех часов в день. Она все еще хочет быть привлекательной.
Фамилию она, правда, оставила прежнюю, по первому мужу. Хотя мне на это глубоко наплевать. Я ей тогда так и сказал. У них свои дела, у меня – свои.
Единственное, за что ему можно сказать спасибо, так это за то, что не мешал и не лез в дела, его не касающиеся. Правда, держал себя всегда высокомерно и холодно, но, черт с ним, хоть не совался с нравоучениями и не читал проповедей, которыми, доучившись до восьмого класса, я уже был сыт по горло.
Помню как-то, когда как раз в восьмом классе и учился, я случайно услышал их разговор. В тот день я пришел раньше обычного: мы с ребятами собирались кутнуть, и до вечера предстояло раздобыть еще необходимую сумму.
И вот как раз в то время, когда я, стоя посередине гостиной, напряженно размышлял над тем, откуда бы мне ее достать, из спальни послышались голоса. Я не ожидал застать мать с отчимом дома и прислушался.
– И все-таки, Александр, ты чересчур с ним холоден, – донеслось оттуда. Если не дословно, то по крайней мере что-то в этом роде; я сейчас слабо помню и привожу поэтому только смысл.
Чтобы лучше слышать, я на цыпочках подошел к двери спальни. Она была приоткрыта, и я увидел мать, которая подводила перед зеркалом ресницы.
– С чего ты взяла? Я так не считаю, – кисло отозвался с кровати отчим, до того перелистывавший какой-то журнал и выказывавший явные признаки нетерпения. Он снова взглянул на часы. – Пупсик, мы опаздываем. (Кстати, меня всегда коробило от этих его уменьшительно-ласкательных словечек). Он вполне взрослый и самостоятельный человек для того, чтобы позаботиться о себе самому. Когда в жизни человек надеется только на себя, то добьется куда большего, чем при помощи любых друзей и покровителей. Но зато у него будет нечто большее – независимость. Ну скажи, мне кто-нибудь помогал?
– Это конечно. Но я не о том. Я просила бы тебя быть с ним чуть поласковее. У него сейчас трудный возраст. Ведь тебе же ничего не стоит изредка спросить, как у него дела в школе, или поинтересоваться тем, что он читает…
Я буквально чуть не умер от смеха. Ничего подобного от моей маман раньше я не слышал. Мне стало жутко интересно, откуда она набралась всей этой дешевой педагогической чепухи. Наверное, какую-нибудь брошюру прочитала. Но последующий разговор не внес в этот вопрос никакой ясности.
– Ну, хорошо, хорошо, – отмахнулся отчим, на чем беседа тогда, собственно, и закончилась.
Однако на следующий день за завтраком он вдруг неожиданно меня спросил:
– Послушай, тебе, наверное, нужны деньги на карманные расходы. Мало ли там на что.
Сказано это было ровным, бесстрастным голосом. Произнеся свой вопрос, он молча взял кружок лимона и окунул его в чай, после чего принялся мешать содержимое стакана, изредка позвякивая ложечкой о стекло. Я, помню, чуть не поперхнулся и только неопределенно покрутил головой. Через некоторое время тот продолжил:
– Пятьдесят рублей, я думаю, на первых порах хватит.
Ошеломленный, я бессмысленно таращился на него, а тот, достав бумажник, хладнокровно отстегнул мне полста, которые я в ближайшие три дня благополучно прокутил с приятелями, поминая добрым словом моего приемного родителя. Потом я, правда, понял, что это была лишь демонстрация в ответ на вчерашний их разговор. Продолжения педагогической работы не последовало, на что я, честно говоря, очень надеялся. А скоро они уехали в Испанию.
Сейчас очень трудно писать обо всем этом, тем более когда стараешься уместить множество событий в сжатый объем.
Теперь уже вечер, и начало темнеть. Я сижу на кровати и пишу. Мой сосед ушел в следующую палату, и оттуда раздаются звуки голосов и смех. Один раз мне даже показалось, что я услышал женский голос. Ума не приложу, откуда она там взялась. Только что раздался очередной взрыв смеха, и я точно уловил женский голос. Он очень похож на голос медсестры, которая выговаривала мне за курение в палате. Очень может быть, что и она. Хотя кто знает.
Смех был дружным и громким, и вместе с тем в нем было что-то, что невозможно спутать ни с чем другим, подобным. Так смеются только в ответ на какую-нибудь пошлость, сальный анекдот или еще что-нибудь эдакое пикантное. От такого смеха меня всегда начинало мутить. Помню, когда мне было двенадцать лет, к нам приехала сестра отчима со своим мужем. Эта тетя Вера была очень живая худенькая женщина, судя по всему, в семье привыкшая командовать. У нее была страсть всех поучать. Меня она с самого начала невзлюбила, так как когда она принялась спрашивать о школе, явно намереваясь битых полчаса разглагольствовать о пользе просвещения, я сказал, что мне с ней скучно и лучше я пойду погуляю. Матери она сказала, что я невоспитанный, избалованный ребенок и что из меня путного ничего не получится, потому что они неправильно со мной обращаются, и что если бы меня отдали ей на недельку, то я бы стал шелковым. Правда, дядя Володя мне понравился. Он был физик и тогда строил какой-то новый реактор. Но я не об этом.
Один раз я вошел в кухню и увидел, что все в сборе, к тому же в прекрасном настроении – смеются. Причем все смотрели на дядю Володю, который что-то жевал и причмокивал, делая вид, что ему очень вкусно. Перед ним я увидел большой пакет с маслинами. Спелые маслины казались мне всегда довольно противными на вкус. Я открыл рот от удивления, а они засмеялись еще громче. Тетя Вера, положив дяде Володе руку на плечо, сказала:
– Теперь ты их будешь есть часто.
– А разве это вкусно? – спросил я, и они все чуть не полопались от смеха.
– Полезно, – ответила тетя Вера и опять засмеялась.
– Вот, не становись физиком, а то тоже будешь есть маслины, – немного погодя сказал дядя Володя.
Я не стал больше ничего говорить. Если они считают меня за дурачка, то пусть. Я-то сразу понял, что дело здесь в сексе. Представляю, каково было дяде Володе делать вид, что ему тоже смешно. И есть маслины, чтобы не выглядеть дураком, когда вдруг во всеуслышанье объявляют, что ты импотент. Помню, я испытывал неодолимое желание вцепиться в крашеную шевелюру тети Веры и стукнуть ее обо что-нибудь носом. А они смеялись. Как сейчас те за стеной…
Но я увлекся.
Итак, отчим с матерью укатили в Испанию. Он вообще почему-то всегда таскал ее с собой. Вот и теперь он повез мать во Францию, хотя что ей там, в принципе, делать?
Перед этим та закатила ему отвратительный скандал, так как каким-то образом узнала, что у него роман с секретаршей, которую тот взял на работу месяца три назад. Честно говоря, я знал об этом, но лично ко мне это никакого отношения не имеет. Пусть хоть пять секретарш себе заводит. Мне на это наплевать. Я, как только это началось, собрался и ушел в кино. Смотрел совершенно бездарный фильм. Помню, актеры с экрана несли какую-то чушь. С серьезными лицами и блеском в глазах. В общем, полфильма они только на шпагах дерутся, точнее, он дерется за эту размалеванную куклу с сантиметровым слоем грима на лице и искусственными зубами, которых, по-моему, у нее было гораздо больше, чем положено. Рядом со мной какая-то дура весь сеанс обливалась слезами, а под конец, когда Он эффектно спас Ее из огромной черной каменной башни, та вообще чуть вся не изошла на слюни и сопли. Не знаю, как я всю эту бодягу до конца вытерпел. И ту, что на экране, и ту, что рядом. Хотя это, конечно, лучше, чем разбираться в чьих-то секретаршах. А в общем, все равно.
Когда я пришел домой после фильма, там уже никого не было. Наверное, укатили куда-нибудь гулять в знак примирения.
А узнал я об этой его, так сказать, служебной симпатии за месяц до того совершенно случайно.
Как-то раз, бредя мимо «Арагви», я наткнулся на машину отчима. Быть может, я бы и не обратил на нее внимания, если бы не талисман у зеркальца – скелет с косой и в черной шляпе. Жуткая пошлость, конечно, вполне в стиле отчима, но мне эта незатейливая фигурка по какой-то причине понравилась. В свое время я мечтал выпросить ее, но так почему-то и не исполнил своего намерения: противно было клянчить, а сам он, понятное дело, так и не догадался его мне отдать.
Времени было где-то часов восемь, и я заинтересовался, что отчим может делать в «Арагви» именно в восемь часов, тем более что мать дома. Еще до того, как войти внутрь, я уже наверняка знал, что он с женщиной, так как в машине на заднем сиденье я обнаружил дамскую сумочку, которую, очевидно, оставила его спутница. Томимый желанием взглянуть, с кем проводит время мой приемный родитель, и слабой надеждой на то, что хотя бы во взглядах на женщин у нас будет что-то общее, я переступил порог ресторана. Отмахнувшись от тут же подоспевшего швейцара и объяснив, что хочу лишь посмотреть, нет ли здесь моих знакомых, я встал у косяка двери, ведущей в зал.
Они сидели в дальнем углу, но мне было хорошо видно. Отчим был при параде и весь лоснился, как апельсин. Напротив сидела та, чью сумку я видел в машине. Откровенно говоря, я даже разочаровался: типичная манекенщица и накрашена так, будто собралась выступать в балете на льду или водить хороводы в ансамбле «Березка». Я даже лица ее не запомнил. Встречу – не узнаю. Помню только, что она была в очень короткой юбке и все выставляла напоказ свои ноги, хотя справедливости ради надо признать, выставлять там было что.
Я постоял еще немного, потом, отойдя от косяка, сказал швейцару, что, видимо, ошибся, так как их здесь нет.
Да, надо думать, поободрала она его, эта манекенщица из «Арагви». А последний месяц он вообще ходил какой-то заморенный. Кончилось все дело, как я уже говорил, скандалом, который разразился спустя полтора месяца после того, как я видел их вместе.



