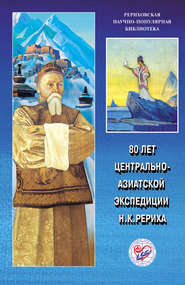 Полная версия
Полная версияПолная версия:
80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008
Наиболее емкий пространственный символ, вмещающий все мироздание, – крест. Крест в путешествии – это и перекресток дорог, одно из сакральных мест любого культурного ландшафта. Перекресток – горизонтальная проекция Креста, ориентированного вертикально – от Земли к Небу, а также символ человеческой судьбы, или точки бифуркации. От того, какие характеристики будет иметь процесс в точке бифуркации, зависит, по какому пути он будет развиваться дальше. От того, какое решение примет в судьбоносный момент человек, зависит его духовный и жизненный путь. От того, какую дорогу выберет на перекрестке путешественник, будет зависеть дальнейший его маршрут. «Крестцы или перекрестки <…> исходища путей, представляют нам ближайшее сходство с течением жизни человеческой. Там из одного исходища, как средоточия своего, пути расходятся в разные стороны. Такие места у древних народов почитались угодными богам» [20, с. 176]. Возможна и обратная семантика, когда крест воспринимается как перекресток в самом глубоком экзистенциональном смысле: «Человек мифопоэтического сознания стоит перед крестом как перед перекрестком, развилкой пути, где налево – смерть, направо – жизнь, но он не знает, где право и где лево в той метрике мифологического пространства, которое задается образом креста» [21, с. 12]. Из этого положения выход укажет только сердце, которое само по себе символически представляет перекрестье земной и небесной дорог.
Для Николая Константиновича Рериха перекресток символизировал, прежде всего, переплетение легенд и миграцию культурных символов, которыми, как нитями, прошито и объединено, закреплено культурное пространство Азии: «На перекрестках дорог ткутся сложные ковры – слухи азиатских узоров» [12, с. 285].
Одна из картин Н.К.Рериха, написанная во время экспедиции, называется «Перекресток путей Христа и Будды». Здесь перекресток, увенчанный памятным знаком вечности и Учения, воплощает совсем иную семантику – в одной географической точке, согласно легенде, в разное время сошлись пути двух великих Учителей, принесших миру новое знание. Между их путями пролегло почти пять веков, но память места, наслоение легенд и преданий, соединила два Имени, пространство в противовес времени выступило великим объединителем.
Легенды формировали особый пласт духовного и культурного пространства, имеющий свою глубокую символику. «Много легенд о полетах Соломона. Среди калмыков очень распространено так называемое Тибетское Евангелие, то есть не что иное, как уже знакомая нам рукопись об “Иссе, лучшем из сынов человеческих”. Конечно, сюда она дошла не из Хеми, а из другого источника. Всюду рассыпаны знаки красоты. Пора их собрать бесстрашно, без суеверия» [12, с. 204]. Подвиги и жития героев и подвижников, записанные на скрижалях народной памяти, генетически были связаны с чаяниями прихода грядущего мессии – легенды прошлого были ручательством правды будущего.
Красота духовная и красота природы в текстах и картинах Николая Рериха становятся равнозначными символами – символами иномирности, символами иной, более высокой реальности. Записывая некоторые выродившиеся обычаи и суеверия, художник и мыслитель учит нас, что следует различать знаки, создаваемые и считываемые невежественным сознанием [12, с. 259], и знаки красоты, возвышающие дух.
Николай Константинович Рерих в путевых дневниках неизменно подмечал знаки грядущего или прошлого, встречающиеся на его пути. «В Драсе лишь первый знак Майтрейи. Но в древнем Маульбеке гигантское изображение Грядущего стоит властно при пути. Каждый путник должен пройти мимо этой скалы. Две руки к небу, как зов дальних миров. Две руки вниз, как благословение земли. Знают, Майтрейя идет» [12, с. 93]; «Майтрейя стоит как символ будущего. Но видели и знаки прошлого. На скалах изображения оленей, круторогих горных козлов и коней» [12, с. 94]; «И даже дни кажущегося бездействия полны знаками. Вот замечательный ларчик. Вот сведения о Севере. Вот сведения о монастыре около Кульджи. И там Майтрейя <…> Бывают времена, называемые “шар событий”, когда всякое обстоятельство подкатывается все к одному и тому же общественному концу. Уже семнадцать лет наблюдаем явления спешащей эволюции. Между могилой отходящего и между колыбелью грядущего электроны несказуемой энергии собирают новообразования. И живописец-затворник горных обителей уверенно изображает битву и победу Майтрейи. Уверенно наносит черты и отличия наступающих и признаки уходящих» [12, с. 158].
Духовный путь подразумевает возможность пройти по нему вслед за первопроходцем. На этом пути нет карт и прочерченных маршрутов. Сами Рерихи шли по пути, назначенному Учителями [см.: 22], временами проходя там, где путь уже был пройден Ими: «Странно и дивно идти теми самыми местами, где проходили Махатмы. Здесь была основанная Ими школа. В двух днях пути от Сагадзонга был один из Ашрамов, недалеко от Брамапутры. Здесь останавливался Махатма, спеша по неотложному делу, и стояла здесь синяя скромная палатка» [12, с. 317]. Героические легенды составляли саму суть пространства Азии, по которому шла экспедиция. «Говорят, что Благословенный после посещения Хотана посетил великий Алтай, где находится священная Белуха. В Ойротии, где кочевники ждут прихода Будды, Белого Бурхана, знают, что Благословенный Ойрот уже путешествует по всему миру, провозглашая великое Пришествие» [16, с. 49]. За этими легендами таилась великая реальность, о которой Рерихи умели сказать или промолчать удивительно красиво. И они оставляли свои духовные вехи и на караванных тропах, и на пути познания высшей реальности. «“Отчего вы не говорите подробно о том, что знаете? Все будто жемчуг сыпете или вехи расставляете”. По вехам сами весь путь пройдете. Сами – ногами человеческими. Жемчуг сами подберете себе по росту. Руками переберете жемчужины. Своими руками разовьете динамику. “Отдадите”, излучите свою волю» [12, с. 48], – свидетельствовал Николай Рерих. Получается практически полное соответствие буддийским путеводителям в Шамбалу, связывающим воедино географическое и иномирное пространство, где обозначены только некоторые конкретные места, перемещение от одного до другого происходит методом восхищения духа.
Литература1. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
2. Флоренский П.А. Об имени Божием // Studia Slavica Hung., 34/1–4, 188.
3. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 1999.
4. Семенов-Тян-Шанский П.П. Предисловие // Риттер К. Землеведение Азии. Ч. 1. СПб., 1856.
5. Козлов П.К. Тибет и Далай-лама. М., 2004.
6. Мурзаев Э.М. Николай Михайлович Пржевальский // Творцы отечественной науки: Географы. М., 1996.
7. Личные воспоминания о Н.М.Пржевальском // Известия Русского геогр. об-ва. 1929. Т. 61. Вып. 2.
8. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.
9. Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980.
10. Иоанн Лествичник. Лествица. М., 1992.
11. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
12. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи: Путевой дневник. Рига: Виеда, 1992.
13. Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981.
14. Живая Этика. Агни Йога.
15. Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000.
16. Рерих Н.К. Шамбала. М.: МЦР, 1992.
17. Савицкий П. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.
18. Шапошникова Л.В. Огненное творчество космической эволюции // Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000.
19. Живая Этика. Община (Рига).
20. Снегирев И. Москва: Подробное историческое и археологическое описание города. Т. 1. М., 1865.
21. Топоров В.Н. Крест // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988.
22. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1. Мастер. М.: МЦР, 1998.
Т.П.Сергеева,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины, заместитель председателя Международной общественной организации «Украинское Рериховское общество» – отделения МЦР, Киев, Украина
ДВА ПУТИ ПОЗНАНИЯ. ВЕЛИЧАЙШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ХХ ВЕКА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
«Как примирить Учение с наукой?». Если наука преподает достоверное знание, то Учение и есть наука. Какую цель имеет наука, если она распухла от предрассудков? Тот, который так обеспокоен торжественностью утверждений, тот понимает науку как логово мещанства. Тому, кто мыслит об общине, тому нет вреда от ползущих гадов.
Община (Рига)Продвигаясь по маршруту, я все больше убеждалась, что экспедиция была главным свершением в жизни Николая Константиновича Рериха. Вся предыдущая его жизнь была подготовкой к ней, вся последующая – работой над ее результатами. Тогда я окончательно поняла, что нужно пройти по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции спокойно, не спеша, внимательно вглядываясь в то, что открылось Рериху на этом пути, о чем он писал и размышлял…
И теперь я могу написать о том, что я видела на маршруте крупнейшей экспедиции нашего столетия, о чем думала и к каким выводам пришла.
Л.В.ШапошниковаЦентрально-Азиатская экспедиция Рерихов (1923–1928) стала уникальным явлением в истории исследований этого региона[7]. Одно из самых масштабных путешествий XIX и XX веков, эта экспедиция выделяется как задачами, которые ставили перед собой ее участники, так и результатами. Современные исследования, основанные на новой мировоззренческой позиции, показали, что она является ключевым моментом в эволюции всего человечества [1].
Однако, как это часто случается с необычными явлениями, не укладывающимися в узкие рамки старого социального мышления, появились примеры неверного восприятия этого явления. В настоящее время мы имеем два противоположных подхода в истории исследования Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. Один из них можно назвать эволюционно-космическим, а другой, противостоящий ему по своей сути, целям и задачам, – социально-политическим.
Первый подход основан на методологии познания Живой Этики. Таким путем планировали и осуществляли задуманное Рерихи, так изучала Центрально-Азиатскую экспедицию Л.В.Шапошникова. Суть такого подхода – углубленное одухотворенное познание на основе нового космического мышления с учетом пространственно-временной взаимосвязи изучаемых событий и явлений. Цель – увидеть, понять и проявить реальную действительность, а в ней то «непреходящее», что является вехами космической эволюции планеты и человечества.
Другой подход основан на социальном типе мышления, ориентированном на социально-политические цели, – отсюда плоское, ограниченное восприятие, часто окрашенное пристрастностью, а иногда и вовсе диктуемое запросами определенных кругов социума. Речь идет о докторских диссертациях В.А.Росова [2] и И.В.Отрощенко [3], в которых деятельность Н.К.Рериха в Центральной Азии вырвана из контекста всей его жизни, посвященной созиданию культуры, и, вопреки сформулированным им самим целям и задачам экспедиции, представлена как политическая.
Чтобы охватить и осмыслить суть Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, ее масштаб и результаты, необходимо в первую очередь обратиться к самим Рерихам, их путевым заметкам, сделанным во время экспедиции, к тому, как они сами формулировали задачи экспедиции.
В предисловии к своим путевым заметкам «По тропам Срединной Азии» старший сын Елены Ивановны и Николая Константиновича Юрий Николаевич Рерих пишет: «Главной целью экспедиции было создание живописной панорамы земель и народов Внутренней Азии. Пятьсот полотен Н.К.Рериха <…> являются одним из самых больших ее достижений. Вторая задача экспедиции состояла в проведении археологической разведки, с тем чтобы подготовить основу для дальнейших серьезных исследований этих малоизученных районов Внутренней Азии. И, наконец, большое значение мы придавали сбору этнографического и лингвистического материала, характеризующего древние культы региона» [4, с. 29]. «Одной из задач нашей экспедиции была регистрация обнаруженных нами курганов и других следов кочевой культуры, расположенных вдоль северной границы Тянь-Шаня, Джаировых гор и Алтая, еще не описанных в научной литературе» [5, с. 110], – записывает он 16 мая 1926 года на маршруте экспедиции. Отметив художественную задачу экспедиции как основную, Юрий Николаевич с присущей ему четкостью формулирует ее конкретные научные задачи.
Николай Константинович в путевых заметках «Сердце Азии» определяет цели экспедиции так: «Кроме художественных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древностей Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов. Эта последняя задача издавна была близка мне. Мы видим в последних находках экспедиции Козлова, в трудах профессора Ростовцева, Боровки, Макаренко, Толя и многих других огромный интерес к скифским, монгольским и готским памятникам. Сибирские древности, следы великого переселения в Минусинске, Алтае, Урале дают необычайно богатый художественно-исторический материал для всего общеевропейского романеска и ранней готики. И как близки эти мотивы для современного художественного творчества. Многие звериные и растительные стилизации могли выйти из новейшей лучшей мастерской» [6, с. 5, 6]. Прежде чем перечислить поставленные перед экспедицией задачи, связанные с конкретным ее маршрутом, Николай Константинович формулирует ее сверхзадачу, которая выявляет и поясняет сокровенную сторону происходившего, затрагивает не только те территории, по которым пролегал маршрут экспедиции, а значительно большие пространства, и связывает воедино современность и глубокое прошлое. Эта задача постоянно звучит в его мысли о будущем значении Азии. «Бьется ли сердце Азии? Не заглушено ли оно песками?» [6, с. 3], – задается вопросом Н.К.Рерих. Это по каким-то известным лишь ему причинам было важно для будущей эволюции человечества. И, несмотря на встречавшиеся на пути разрушенные города и крепости, погибшие леса и возникшие на их месте пустыни, грубость и лицемерие отдельных представителей власти, на протяжении всего маршрута экспедиции находит признаки того, что сердце Азии живо и «открыто к будущему» [6, с. 37]. Выделяя в сложном мире Азии два различных «потока жизни», Николай Константинович пишет: «Встречаясь со скучною рутиною ежедневности, встречая трудности и грубость и обременительные заботы в Азии, вы не должны сомневаться, что в самую обычную минуту у двери вашей уже готов постучаться кто-то с самою великою вестью. Два потока жизни особенно различимы в Азии, и потому пусть лик обыденности не разочаровывает вас. Легко вы можете быть вознаграждены зовом великой правды, который увлечет вас навсегда» [6, с. 83]. Он уверен, что победит тот поток, в котором звучит «зов великой правды» – той космической реальности, которая скрыта в «истории помимо историков». «Сердце Тибета бьется, и временный паралич некоторых членов этого организма пройдет» [6, с. 54], – утверждает Николай Константинович в «Сердце Азии». «Богатство сердца Азии сохранено, и час его пришел» [7, с. 14], – отмечает он и в путевых заметках «Алтай – Гималаи».
Второй важный момент в исследовании такого масштабного явления как Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов связан с тем, что Николай Константинович Рерих называл «истинными впечатлениями действительности». Уже на маршруте экспедиции он писал: «Никакой музей, никакая книга не дадут право изображать Азию и всякие другие страны, если вы не видели их своими глазами, если на месте не сделали хотя бы памятных заметок. Убедительность, это магическое качество творчества, не объяснимое словами, создается лишь наслоением истинных впечатлений действительности» [6, с. 5]. Это высказывание Рериха относилось, прежде всего, к художественным задачам экспедиции, но не только к ним. Вторя Николаю Константиновичу, можно сказать, что никакие архивы, книги, газетные статьи или чьи-либо частные высказывания не дают права делать выводы о целях и итогах Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, если вы не прошли хотя бы часть ее маршрута, не приобщились тому миру, который встретили Рерихи на своем пути и который они запечатлели в художественных образах и в путевых заметках.
В Живой Этике – философии космической реальности – указывается переживание путей, как один из методов познания и развития [8, 140]. Это имеет отношение и к историческому познанию. Такое «переживание путей» нашло, в первую очередь, отражение в картинах Н.К.Рериха. Одна из самых важных – художественная задача экспедиции по созданию панорамы земель, по которым проходили Рерихи, сама по себе была необычным явлением хотя бы по своему масштабу – 500 живописных полотен, написанных в условиях экспедиции. Но не это было главным. Полотна Рериха не только отображали современное ему настоящее, на них фиксировалось и глубокое прошлое этих мест, ибо Николай Константинович обладал уникальной способностью видеть картины прошлого, когда прикасался к историческому наследию тех эпох или пространствам, где происходили исторические события. И его картины при этом обладали поразительной исторической достоверностью. В своих экспедиционных картинах Н.К.Рерих запечатлевал неведомые пространства, их духовную энергетику прошлого и эволюционный потенциал, важный для будущего.
Переживание путей Центрально-Азиатской экспедицией кроме реализации художественных и научных задач дало Рерихам возможность более глубоко почувствовать и увидеть то сокровенное, что хранила земля, по которой они прошли. Чутко услышать и распознать во множестве легенд, сказаний и мифов ту необыкновенную реальность космической эволюции, которая связана с древним и загадочным для европейского сознания понятием Шамбалы. Постепенно по мере продвижения экспедиции слагались грани этой реальности. «Утром приходит монгольский лама. Вот радость! То, что мы знаем с юга, то самое он знает с севера. Рассказывает, что именно наполняет сознание народов, что они ждут» [7, с. 254], – записывает Н.К.Рерих в Урумчи. И уже на Алтае, пройдя значительную часть маршрута, отмечает более определенно: «С юга и с севера, с востока и с запада мыслят о том же. И тот же эволюционный процесс запечатлевается в лучших образах. Центр между четырех океанов существует. Сознание нового мира – существует. Время схода событий – улажено, соблазн собственности – преоборен, неравенство людей – превзойдено, ценность труда – возвещена. Не вернется ли чудь подземная? Не седлают ли коней агарты, подземный народ? Не звонят ли колокола Беловодья? По Егору не едет ли всадник? На хребтах – на Дальнем и на Студеном – пылают вершины» [7, с. 281].
И завершает Н.К.Рерих свои путевые заметки «Сердце Азии» такими словами: «Вы спросите меня:
“Среди всех многообразных впечатлений и заключений, какое понятие особенно явилось для меня воодушевляющим?”
Без колебания скажу вам:
“Шамбала!”» [6, с. 55].
Метод изучения Н.К.Рерихом истории и культуры, примененный им в экспедиции, был основан на утверждаемом в Учении Живой Этики синтезе научного и художественного восприятия изучаемого явления. Как отмечает Л.В.Шапошникова [9, с. 307–312], Николай Константинович изучал исторические процессы на уровне культурно-исторической эволюции человечества с широкой, обобщающей позиции художника, ученого и мыслителя. Особенность его подхода состояла в том, что он искал и выявлял «непреходящее» – те элементы культурной традиции народов, имеющие эволюционный характер, которые и формировали механизм культурной преемственности, идущей из глубокой древности через настоящее к будущему. «Чудесное» делается «научным», писал Николай Константинович, складывая в своих путевых заметках мозаику истории мира «помимо историков» – истории иных измерений, уже не земного, а космического масштаба.
Каждая эпоха имеет свою мировоззренческую парадигму. Наше время характерно становлением нового космического мировоззрения. Но задолго до прихода нового происходят события, которые не укладываются в старые мерки, хотя именно они и подготавливают рождение этого нового. Так случилось и с Центрально-Азиатской экспедицией Рерихов, равно как и с другими делами их жизни. Как показывает анализ библиографических данных, ни во время самой экспедиции, ни много лет после эта величайшая экспедиция ХХ века не получила должного освещения в научных исследованиях. Современники не оценили масштаба произошедшего. Как будто какой-то барьер оградил экспедицию от научного мира. Барьер невидения и непонимания. Барьер незримый и неосознаваемый. Много было публикаций о живописном творчестве Н.К.Рериха, о Пакте и Знамени Мира, хотя зачастую и они не раскрывали истинной сути этих сторон творчества Мастера. Жизнь и творчество семьи Рерихов раскрывалась и отображалась в той мере и части, которая была доступна уровню сознания современников и совпадала с господствующей мировоззренческой парадигмой. Удивительно, что даже сам масштаб экспедиции, пройденные тысячи километров пути, десятки преодоленных перевалов в труднодоступных горных районах не вызвали изумления и не возбудили интереса у ученых и общественности. Как будто все, связанное с экспедицией, было бережно скрыто до сроков.
Экспедиция имела широкий комплекс задач, в том числе и необычных, не укладывающихся в рамки традиционных исследований. Область деятельности Рерихов захватывала огромное пространственно-временное поле. Круг объектов исследований включал в себя и сугубо материальные предметы культур народов, и такие понятия, как духовность, ментальность и красота. Сами исследования планировались и проводились исходя из методологии познания Живой Этики – философии космической реальности. Поэтому оценить истинное значение экспедиции можно было только с позиций космического мировоззрения, одним из основных гносеологических положений которого является целостное восприятие всех явлений в их временной и пространственной взаимосвязи.
Условия к осмыслению истинных целей и значения для будущего Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов сложились лишь в 70-е годы ХХ века и нашли наибольшее отражение в творчестве ученого-индолога, ведущего рериховеда и русского космиста современности Людмилы Васильевны Шапошниковой. Пройдя бóльшую часть маршрута экспедиции Рерихов, Людмила Васильевна сначала в книге-альбоме «От Алтая до Гималаев», затем в трилогии «Великое путешествие» и последующих трудах исследует и раскрывает глубинную сущность этого масштабного события, происходившего в 1923–1928 годах ХХ столетия на огромной территории, которую охватил маршрут Центрально-Азиатской экспедиции.
Исследует, прежде всего опираясь на путевые заметки Н.К.Рериха. Все, кто знаком с книгами «Алтай – Гималаи» и «Сердце Азии», знают, что эти заметки, емкие и глубокие по смыслу, чрезвычайно лаконичны. В них многое недосказано, дано лишь намеками – помечено вехами, как это сформулировала Л.В.Шапошникова еще в самой первой своей книге, посвященной Центрально-Азиатской экспедиции: «От Алтая до Гималаев» [10, с. 20]. Расставляя свои вехи, Н.К.Рерих как бы закладывал программу для последующих исследований Азии. Его вехи, показывая путь и направление исследований, лишь ждали своего путника, способного их увидеть, понять и пройти указанной дорогой. По этим вехам и прошла Людмила Васильевна, выявляя, как она сама сформулировала, их «точный концептуальный смысл» [10, с. 21], внимательно вглядываясь в то «непреходящее», что зафиксировал в своих путевых заметках Н.К.Рерих. Шла не поспешным туристическим маршрутом, а подолгу задерживаясь в ключевых точках, иногда забираясь в места далекие от древней караванной дороги, которой прошли Рерихи, для поиска того недосказанного Николаем Константиновичем, которое и давало расшифровку, развитие и наполнение его вехам.
Приведу лишь один пример следования таким вехам. Как отмечает Л.В.Шапошникова: «”Вдохновенный иероглиф” рериховских вех был поставлен не только на памятниках материальной культуры. Фольклор, духовное наследие народов, был тоже отмечен ими» [10, с. 26]. Многие легенды, сказания и предания основывались именно на «непреходящих» элементах культурной традиции народов, сохранившихся благодаря непрерывающейся цепи культурной преемственности, особенно свойственной Индии. Описывая пребывание в Кашмире, Николай Константинович пишет о древнейшем культе Азии – жены и змея: «Змеинообразные капители колонн Азии и майев говорят о том же культе – мудрой жены. О том же указывает старое блюдо, найденное в Кашмире: посередине сидит царь змеев с волшебным цветком в руке. У царя две пары рук – черные и светлые, ибо мудрость имеет полное вооружение. Перед царем женщина с покрывалом на голове, женщине царь вручает мудрость. Вся группа находится на фоне множества змей, поднявшихся и соединивших головы. Вокруг срединного изображения ряд отдельных фигур властителей, имеющих на шее изображение змея <…> Так хранят древний знак мудрости» [7, с. 70]. Идя по этой вехе, Людмила Васильевна посещает многие места Джамму и Кашмира – «Земли риши-мудрецов», как она ее назвала, Спити, Кулу, Лахула и Чамбы – долин «Земли богов», где и по сегодняшний день сберегаются эти «древние знаки мудрости». Это позволило ей дать развернутую картину истории зарождения и развития живущих и сейчас среди народов этих районов культов нагов-змей и богинь-матерей [10, с. 175–209]. На этой картине возникает «история помимо историков», в которой мифическое время вступает во взаимодействие с историческим и побеждает его своей неопровержимой убедительностью и жизненностью. На примере истории нагов можно увидеть, как раскрываются автором и другие рериховские вехи – «вдохновенные иероглифы»: «соотношения временных категорий прошлого, настоящего и будущего», критерии «преходящего и непреходящего», «исторического динамизма» народов, эволюционной значимости тех символических камней древних культур – культурных достижений народов, которые и слагают рериховские «ступени грядущего» [10, с. 23–26].



