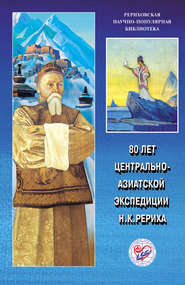 Полная версия
Полная версияПолная версия:
80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008
Алтай сегодня – это своеобразный центр евразийской этнокультурной и политической консолидации на фоне обострения религиозных и этнических конфликтов во всем мире. Тем самым сбывается предсказание семьи Рерихов об Алтае, как одном из важнейших мировых центров межкультурного диалога и дружбы народов.
Один из самых значительных и красивых региональных международных проектов, который ныне активно обсуждается и частично начал реализовываться, – это расширение номинации ЮНЕСКО «Алтай – золотые горы» через включение в него примыкающих к «Зоне покоя Укок» и к Катунскому заповеднику (Россия) особо охраняемых природных территорий Баян-Ульгийского аймака Западной Монголии (национальный парк «Таван Богд»), национального парка «Канас» в Китае и Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане. В результате может быть создана заповедная срединная территория Евразии вокруг священного плоскогорья Укок и горного массива Табын-Богдо-Ола (пять священных вершин), где сходятся воедино границы четырех крупнейших государств. Она призвана стать символом общей устремленности народов к экологически безопасному и одухотворенному будущему.
Литература1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2004.
О.А.Лавренова,
кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Российского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева, ответственный секретарь редакции журнала «Культура и время», Москва
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Н.К.РЕРИХА: ФИЛОСОФИЯ И СЕМАНТИКА ПУТЕШЕСТВИЯ
Хочу видеть вас идущими по лицу мира, когда от множества границ стираются народности. Как можем летать, когда пришпилены на маленький гвоздик?! Удумать надо, как человечеству нужны путешествия!
Община (Урга)Все полно знаками. Лишь не просмотрите. Смотрите зорко, и радостно, и подвижно.
Н.К.РерихПутешествие – одно из древнейших явлений культуры. Пространство, простор изначально манит к его постижению. Преодолеть пространство – значит приблизиться к его пониманию. Не только к пониманию конкретных ландшафтов и народностей, но и пространства как духовной категории. Личность становится «пространственней», расширяя границы сознания. Открываются новые горизонты, преодолеваются границы, в том числе внутриличностные.
При взаимодействии с географическим пространством «обнажается важный принцип культурного мышления человека: реальное пространство становится иконическим образом семиосферы – языком, на котором выражаются разнообразные внепространственные значения, а семиосфера, в свою очередь, преобразует реальный пространственный мир, окружающий человека, по своему образу и подобию» [1, с. 320]. В путешествии ярче, чем при других видах этого взаимодействия, происходит символизация пространства культурой.
В символе зашифровано то, что сложно выразить словами. Как писал П.А.Флоренский, символ – это «такая реальность, которая больше себя самой» [2, с. 73], и ничто так не богато смыслами, укладывающимися как матрешка в матрешку или, наоборот, начинающимися с начертания на камне как указания пути или придорожного креста и охватывающими небесные сферы, как тема путешествия.
Символичность характерна для пространства культуры, для сакрального пространства, но эти пространства требуют не бесстрастного наблюдения, а вживания – исследования его герменевтическими методами. Мирское, обыденное пространство доступно стороннему наблюдению и описанию, но чрезвычайно скудно по своей семантике. Эти пространства существуют одновременно в одно и том же культурном ландшафте, и путешественник, перемещаясь по лицу планеты, выбирает сам, в каком из них он совершает свой путь, насколько богаты и полисемантичны будут его наблюдения.
Путешествие в контексте семиосферыВ разных культурах существуют сходные семиотические коннотации пути, которые можно классифицировать следующим образом.
Вектор на плоскости – обыденные путешествия, совершаемые с бытовыми и научными целями – торговля, туризм. О таких путешествиях Н.К.Рерих, преодолевший просторы Центральной Азии, писал: «Умножаются всякие научные экспедиции, далеко проникают всевозможные торговые миссии. Бороздят воздух железные птицы и с вестями, а то и просто на скорость. Ведь с доброю целью накопляются все эти знаки. Будем думать, что именно с доброй целью. Туризм-путешествие есть действительно тот жизненный университет, который вдыхает в народы новые обновленные возможности» [3, с. 171]. Жизненный опыт, накапливаемый в путешествии – драгоценный кристалл в копилку сознания, который, может быть, однажды под лучами духовной мудрости засверкает новыми огнями и даст возможности расширения сознания.
Движение по кругу – мифологические путешествия проклятых персонажей, в которых выражена бесконечность и бесцельность вечного скитания, как вариант в реальной жизни и реальном пространстве – бродяжничество. Независимо от траектории скитания, окружность в данном случае символизирует лишенное цели путешествие, превратившееся в наказание. Данте в «Божественной комедии», суммируя философские представления своего времени и собственный мистический опыт, связывает круговое движение с организацией пространства Ада, которому противопоставлено совсем иначе устроенное горнее пространство: «Греховность циркульного движения распространяется только на Ад, поскольку связывается с сужением пространства, его возрастающей теснотой, чему противопоставлено расширяющееся пространство небесных сфер и бесконечность сверкающего Эмпирея. Пространство Ада не только тесное, но и грубо материальное. Ему противостоит идеальность одновременно бесконечно суженного до одной Точки (Рай XXVIII, 16, 22–25 XXIX, и 16–18) и расширенного до беспредельности. Противопоставление дополняется антитезами: “свет – тьма”, “благовоние – зловоние”, “тепло – крайний жар или крайний холод”, которые в сумме образуют семиотическую конструкцию дантовского мироздания» [1, с. 310].
Вектор на плоскости, расширяющий всеобщее поле познания – научные экспедиции. Проходя в обыденном, десакрализованном пространстве, экспедиции качественно отличаются от бытовых путешествий своей информативностью, хотя в ряде случаев представляют собой лишь конструирование образа «другого», другого мира – где отправной точкой суждения неизменно остается культура и природа родной страны. Научные экспедиции представляют собой особый случай взаимодействия человека и географического пространства, ибо в результате таких путешествий мировая культура и наука обогащаются новыми знаниями, новой информацией, преимущественно географической и этнографической. Анализ полученных данных позволял многим ученым выйти на новый уровень понимания закономерностей географической оболочки в целом или отдельных регионов. Так, П.П.Семенов-Тян-Шанский, пройдя сотни километров по Азии, делает заключение о необходимости разграничения географии «в обширном смысле» и «в тесном смысле». Первая, по мысли ученого, имеет задачей «полное изучение земного шара, т. е. законов строения его, с его твердою, жидкою и воздушною оболочками, законов отношения его к другим планетам и к обитающим на нем организмам» [4, с. 7–8]. Вторая, или «физиография земной поверхности», имеет задачей «описание как постоянных, неизгладимых веками черт ее, набросанных самою природою, так и переменных, изгладимых, проведенных рукою человеческою» [4, с. 7–8]. Наблюдения, сделанные ученым с широчайшим кругозором, позволили ввести в науку такие принципиальные методологические подходы, как районирование, основы учения о природно-хозяйственных зонах, тем самым – приблизить человечество к более совершенному пониманию своего дома – Земли.
Красота слога, красота литературного «портрета» местности – отличительная особенность путевых заметок русских путешественников. Но для ученых святыни и символы – не более чем признак выявления культуры во «вмещающем ландшафте», хотя не чуждое красоты. Вот одно из описаний священного для буддистов и практически недоступного для европейцев города Лхаса, сделанное П.К.Козловым: «Самый интересный город по представлению европейцев и самый идеальный по представлению самих тибетцев – Лхаса – очаровывает путника издали, когда он впервые, с ближайших предгорий, видит лхасскую долину, окаймляющие ее горные цепи, а главное – Поталу и храм медицины, расположенные на отдельных горках, по преданию, привезенных на вьюках из Индии. После тяжелой монотонной дороги Лхаса с дворцом Далай-ламы и массою храмов, ярко блестящих на солнце золочеными кровлями и ганчжирами, действительно производит сильное впечатление. Дивное сочетание долины и божественных холмов – Марпори и Чжангпори, – прозрачных голубых небес и яркого солнца, оригинальных построек и красных, золотых и белых красок порождает живую сказку» [5, с. 48]. Так же красивы описания далеких земель и пройденных путей Н.М.Пржевальским, который, тем не менее, признавался: «Как ни разнообразна, по-видимому, почти ежедневно изменяющаяся обстановка путешественника во время его движения с караваном, но все-таки, несмотря на частую новизну в том или другом отношении, на постоянную смену внешних впечатлений, общее внутреннее течение жизни принимает однообразный характер» [цит. по: 6, с. 217–218]. Но ученых в путешествие ведет не только страсть к познанию иных земель и обычаев, стремление принести эти знания своему народу и миру, но и желание увидеть иные звезды под иным небом – об этом писал П.К.Козлов, вспоминая о судьбоносной для себя встрече с Н.М.Пржевальским [5].
«Польза путешествия и всестороннего познавания, – писал Николай Рерих, – вероятно, никогда настолько не занимала умы, как сейчас. Скоро земной шар будет испещрен пройденными путями. Но это будет все-таки лишь первичная степень познания. И на каждых этих путях нужно будет и взглянуть высоко наверх, и глубоко проникнуть внутрь, чтобы оценить все разнообразие возможности, так недавно вообще незамеченное» [3, с. 196].
Но в семантическом поле культуры даже научная экспедиция – это караван, уходящий вдаль, тем самым выходящий за пределы обыденного познанного мира. «…Полюс близко реален в том смысле, что он находится в конкретно-пространственной зоне, а полюс далеко ирреален, так как теряет связь с самой идеей пространственной локализации» [8, с. 47]. В этом отношении к путешественникам всегда складывается особое отношение, роднящее их с древнейшим явлением культуры – путешествию за границы ойкумены в поисках Неведомого.
Вектор восхождения – символизирует духовные путешествия и паломничества. О совершенствовании человека все религии говорят в терминах пути – пути к Богу. В этом контексте изменяется и собственно географическое пространство, превращаясь в духовное. «Что высота небесная, широта, земная, глубина морская? Иоанн рече: отецъ, сынъ и святый духъ» [9, с. 136], – так говорится в апокрифической «Беседе трех святителей». Поэтому образ пути и путешествия в традиционной культуре – один из основополагающих. Путешествие воспринимается как инициация, посвящение в великие таинства, которые постигаются на грани жизни и смерти, – ведь преодоление неосвоенных и даже неблагоустроенных пространств всегда сопряжено с опасностями.
Паломничество по святым местам в крайней своей форме не предполагает любования пейзажами – только переживание событий святого писания или предания. Ландшафт становится символом исторических или мифологических событий, выступающих как инициация. В этом случае перемещение по лицу земли рассматривается как символ и практически аналог духовного пути.
По мнению многих скитальцев и пустынников, стремившихся к духовному преображению, этому наиболее способствует неяркий, аскетический пейзаж, который должен быть местом «смиренным, лишенным случаев к утешению и тщеславию» [10, слово 3, 17]. Ничто не должно отвлекать глаза и душу от внутреннего сосредоточения. Для этого и уходили в «пустыню», лишенное обычных благ земли место.
Иную семантику имеют путешествия – поиски Светлого Града. Здесь пересекаются две темы мировой культуры – мудрость земли и земли мудрецов. Преодолевая пространство, человек, открытый восприятию красоты земли, набирается у нее мудрости. Для человека, чувствительного к Божественной красоте, понятно, что именно «осознание красоты спасет мир» – великолепный пейзаж, радующий глаз, станет самым высоким духовным символом только для того, кто пытается увидеть отраженный в нем Божественный Лик. Устремление к землям легендарных мудрецов, к святым землям (в смысле обитаемым святыми людьми) определяет взгляд путешественника на географическое пространство как таковое.
Русской духовной культуре было присуще особое явление – странничество, в котором сосредоточивалась неизбывная тоска по иному пространству, преодоление горизонтального пространства приобретало свойства вертикали – дороги в небо. Николай Рерих писал об этом явлении культуры: «От океана до океана, через все препоны и трудности шли путники воображенного града. Тоска по светлому Китежу, неугомонное хождение в Беловодье, поиски святого Грааля не от тех ли исканий, когда наблюдательный проникновенный взор, восхищаясь богатствами царств природы, звал неутомимо вперед.
Было бы малым решением предположить, что эти путники механически выталкивались народностями, восстававшими позади. Правда, незабвенный Тверитянин восклицал: “И от всех наших бед уйдем в Индию”, куда он все-таки и ушел и, подкрепившись светом путешествия, вернулся назад, овеянный чудесною опытностью» [3, с. 72–73].
Бердяев характеризовал странничество следующим образом: «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости.
Странник – свободен от «мира» и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. <…> В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед ее духовными очами» [11, с. 19–20].
В семантике преодоления пространства особая тема – понятие границы. Граница – самое семантически насыщенное понятие в культурной географии. Граница соединяет и разъединяет два мира, образы границы и ее преодоления наиболее значимы в каждой национальной культуре. Запредельное, чужое пространство вызывает вполне обоснованный трепет – оно всегда символ запретного пространства, куда не позванный не пройдет. Поэтому в каждой культуре существуют и легендарные «герои пути» – «они постоянно находятся в движении и, что еще важнее, постоянно пересекают границы запретных пространств» [1, с. 311]. Это либо люди, наделенные особыми (Божественными или инфернальными) свойствами, либо не люди (ангелы, демоны, элементалы).
Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов стоит особняком в ряду путешествий по Центральной Азии. Она не походила на обычные экспедиции, хотя вышедшие по ее результатам книги Николая и Юрия Рерихов, безусловно, обогатили человечество новыми географическими и этнографическими знаниями, а собранный материал стал основой целого научного института – Института Гималайских исследований «Урусвати». В отличие от других научных экспедиций, Рерихи перемещались в сакральном пространстве Азии, хотя и не были странниками в полном смысле этого слова. Караван шел груженый необходимыми вещами, палатками. Перед экспедицией стояли и научные, и духовные задачи. Причем последние были намного выше, чем достижение святых мест, этот караван шел по лицу земли, не ища «новой земли и нового неба» в географическом смысле, а творя их. «И с конями, и с мулами, и с яками, и с баранами, и со псами по старому пути, но со знаками новых возможностей пойдем на горы» [12, с. 108], – писал Н.К.Рерих. Но русская душа руководителей экспедиции была сродни тем, «взыскующим Града», об этом свидетельствует одна из записей Николая Константиновича: «Опять вечерние пески, лиловые. Опять костры. Караван с вещами сильно запоздал, и мы сидим налегке, как будто и не бывало этих вещей, которые так усложняют всю жизнь. На песке пестрые кошмы. Веселые языки пламени красно и смело несутся к бесконечно длинным вечерним тучам» [12, с. 166–167].
Особые путешествия из разряда странничества – популярные в Средневековье поиски земного рая. Особое значение в этом контексте приобретает сама характеристика дальности. Путешественник преодолевает трудности пути и земную юдоль, очищая свою душу, готовя ее к принятию особой, духовной радости. «Наиболее отдаленный пункт – рай – противостоит обычным странам <…> по признаку веселья, радости, удобства для жизни в земном значении. Учитывая особое значение географической отдаленности, можно объяснить, почему в средневековую утопию обязательно входил признак дальности. Прекрасная земля – земля, путь в которую долог» [1, с. 303]. Рай связывался с движением на восток (вероятно, навстречу солнцу) и на юг. Ад – с движением на север или запад.
Позднее поиски рая сменятся поисками Шамбалы – после того, как Запад соприкоснется с глубинными понятиями Востока. Существовавшая издревле в буддизме традиция, основанная на текстах-путеводителях в Шамбалу, в трансформированном виде была ассимилирована западной культурой. Реальность Шамбалы – точка и бесконечность, близость (не надо никуда идти, надо найти ее в сердце) и бесконечная удаленность (ищущий не дойдет, если не позван). Для успешного путешествия качества пространства должны соответствовать качествам человека. Созвучие, когда культурное и духовное пространство либо принимает, либо отталкивает чужака. «Есть у мене земля, в неи же трава, ея же всяк зверь бегает, а нет в моей земли ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека, занеже моя земля полна всякого богатства. А нет в моей земли ни ужа, ни жабы, ни змеи, а хотя и войдеть, ту и умрет» [3, с. 468], – так в древнерусском тексте говорит пресвитер Иоанн о своем царстве. Если перевести это на язык современной науки, то очевидно, что речь идет о различных энергетических уровнях, высший из них может быть губительным для низшего, если тот пересечет заветную границу, не оставив за порогом свою мерзость (воплощенную в средневековом тексте в образах пресмыкающихся).
С понятием Шамбалы из всех географических реалий тесно связаны, прежде всего, Гималаи. «Горы знаменательны как начало, выводящее из низших земных условий. На высотах можно ощущать выход из обычных требований земли» [14, 73]. «У Наших гор темп вибраций так высок, что даже на расстоянии выведены из равновесия…» [15, с. 82], – говорит Учитель о Гималаях. Участки земной поверхности отличаются по темпу и напряженности вибраций, созвучный им путешественник входит в резонанс, дух получает новые возможности. В сфере символов, семиосфере, Гималаи выступают и как символ мировой горы. «Кто бы ни созерцал Гималаи, вспоминает великое значение горы Меру. Благословенный Будда путешествовал в Гималаях в поисках Света. Там, около легендарной святой Ступы, в присутствии всех Богов, Благословенный получил свое Озарение. Воистину, все, что связано с Гималаями, несет великий символ горы Меру, стоящей в Центре Мира» [16, с. 45], – писал Николай Рерих.
Понятие Шамбалы неразрывно связано с Центрально-Азиатской экспедицией Н.К.Рериха хотя бы потому, что с Рерихами путешествовал Камень – осколок метеорита, по преданию, пришедшего на Землю из созвездия Орион и находящегося именно в той точке земной поверхности, где пространство обретает несвойственную для нашей планеты мерность, становясь мостом, живой связью с иными мирами, с Космическим магнитом. Согласно преданиям, Камень не первый раз путешествовал по Земле. В записях Рерихов есть указания на то, что Александр Македонский и Наполеон в походах несли его с собой. Но Центрально-Азиатское путешествие отличалось тем, что роль Камня была осознана его носителями.
Семантический вектор устремления вверх, противопоставленный передвижению по поверхности, может иметь еще две разновидности. Первая – проникновение вглубь, в сакральные слои культурного ландшафта, и как следствие, – озарение, путь в беспредельные высоты духа. Вторая вытекает из концепции месторазвития [17] человеческих сообществ, выдвинутой Петром Савицким. Человек развивает место, место служит опорой для развития проживающего на нем общества. И наивысшая ступень, достижимая для святых, подвижников, мудрецов, властителей дум, – устремление гори вместе с территорией. В Живой Этике упоминается «заложение магнитов». Магнитами могут быть места, связанные с духовными взлетами, совершавшимися в определенной точке географического пространства. К таким местам потом устремляются массы людей, начинают формироваться исторические события (вроде войн за Гроб Господень, строительство храмов на местах отпечатков ноги Будды и т. п.). Так, даже предполагаемое место самадхи Будды Гаутамы и места мощного духовного возвышения героев духа являются магнитами, точками напряжения современной культуры. Соприкасаясь с их аурой, человек, если он подготовлен к этому, приобретает собственный трансцендентный опыт.
Сам акт преобразования территории также является восхождением для подвижника. Земная материя созвучна ему по рождению, перерождая себя, рождая в себе нового, иномирного человека. Если пытаться осмыслить этот процесс в терминах синергетики, духовный подвижник как бы взрывает косную материю изнутри, и волна этого «взрыва» очищает и трансформирует прилежащие слои географической оболочки. Преодоление косности материи, не только своего тела, но и окружающего мира, формирует духовное напряжение необычайной силы, возносящее подвижника в миры соответствующей напряженной энергетики. Семантика такого действа – расширяющаяся до Беспредельности сфера – применительно не к путешественнику, но к территории, которая обретает новые смысловые измерения.
Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов может быть отнесена к этой категории взаимоотношения человека и пространства. Экспедиция проследовала и в географическом, и в политическом, и в культурном пространстве. Караван преодолевал перевалы, горные реки, пустыни и соляные болота. Люди преодолевали сопротивление чиновников, козни английской разведки, напряженность политических отношений в спорных регионах Центральной Азии, на которые явно или тайно претендовали великие державы того времени. И в то же время, перемещаясь по земной поверхности, экспедиция находилась вне власти Земли, ибо ее руководители обладали космическим сознанием. Космические лучи, лучи Братства, ассимилированные земной женщиной, чертили на поверхности Земли свой огненный узор – по мере перемещения экспедиции по Центральной Азии их напряжение менялось, достигнув наивысшего напряжения над Тибетским нагорьем. Фактически происходило соединение огня пространства и напряженного огня человеческого духа. Кульминационный, знаковый период духовного преображения Елены Ивановны Рерих пришелся на стояние экспедиции на плато Чантанг [см: 18], на Крыше Мира. За «Крышу Мира», Тибет, в начале ХХ века велись сложные политические баталии. Решая стратегические проблемы и пытаясь заглянуть в будущее на несколько десятков лет вперед, государства стремились овладеть этой территорией, в то время как там происходили события, имеющие отношение к совершенно иным пространственным масштабам, иной временной шкале.
Время тоже осмысливается культурой и имеет свои знаки и символы в пространстве, эти символы улавливают его текучую материю, привязывая к определенному месту. Происходит своеобразная спатиализация времени, когда по знакам в географическом пространстве можно двигаться и в разных временных слоях и ритмах.
Центрально-Азиатская экспедиция несла потенциал будущего. И хотя то и дело безобразными знаками старого мира вставали грязь и невежество, которым тоже отводилось должное место в дневниках Рериха, знаки грядущего обновления мира, по которым шли Рерихи, перемещали экспедицию в иной временной срез. Экспедиция сталкивалась с пережитками прошлого, которые постоянно стремились уничтожить ростки будущего, но несла в себе громадный потенциал будущего, оно настолько было созвучно сознанию, что казалось очень близким. Вектор устремления в будущее делал саму экспедицию знаковым явлением. На ее путях была создана книга «Община», книга о будущем социальном и духовном устройстве мира – в противовес старому отжившему миру, встававшему на ее пути. Эта книга говорила и о том, что в осознании Беспредельности, имеющей бесконечное множество проявлений и непознаваемую непроявленность, исчезает изначально присущая человеческому сознанию центрированность на собственной личности: «Может отдать свое “я”, кто осознал пространство» [19, 176].



