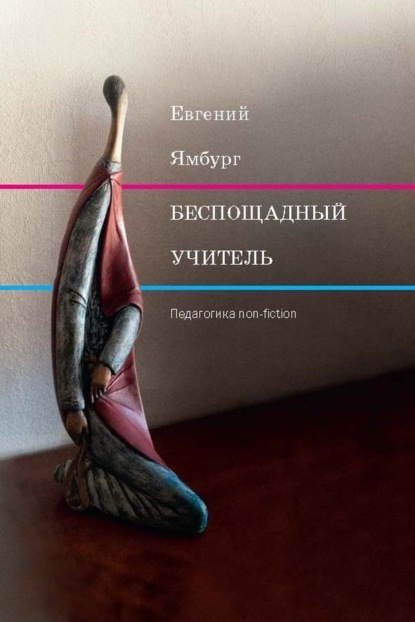
Полная версия:
Беспощадный учитель: педагогика non-fiction
Между тем, во всем мире в исследованиях феноменов культуры сегодня широко используется междисциплинарный подход. Отсюда следует, что для более полной ориентации в культурном пространстве прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего педагогика неизбежно должна расширять круг своих источников. К ним с полным правом можно отнести: дневники и автобиографии, семейные архивы и музеи, фольклор, включающий лагерное арго и молодежный сленг, язык Интернета и модные тенденции в музыке, одежде и кинематографе. Для чего стародавней педагогике, ведущей свое существование с незапамятных времен, такое дополнительное обременение? Говоря современным языком, для налаживания коммуникации с той реальной средой, в которой сегодня существует и действует учитель. А выражаясь более резко, для того чтобы не впасть в педагогическую деменцию.
Чтобы подняться на новый уровень междисциплинарной интеграции, одного интеллектуального посыла недостаточно – требуется мощное эмоциональное включение. Педагогика – занятие коллективное, но надеяться на массовое прозрение не приходится. Как справедливо замечает А. Эткинд:
«На деле коллективы не могут чувствовать вину или печаль; на это способны только индивиды. У последних, однако, есть возможность передать свои чувства другим людям. Инструменты для этого дает культура, позволяющая людям обмениваться опытом и передавать его»[4].
Ярко выраженный индивидуальный эмоциональный окрас педагогики non-fiction задает стилистику этой книги и одновременно является обоснованием ее жанра.
Педагогика переживания
Существуют два рукава одной педагогической реки: строго (иногда излишне) научная педагогика с ее понятиями, категориями и закономерностями и педагогика художественно-публицистическая. На первый поверхностный взгляд различие обеих педагогик заключается в манере и стилистике изложения педагогических взглядов, что в свою очередь определяется художественным даром одних авторов и научной скрупулезностью других. Сравнивать их, а тем более противопоставлять, не имеет смысла, ибо это сродни некорректному риторическому вопросу: какой способ познания мира и человека является истинным – художественный или научный? Тем не менее, проблема остается и нуждается в осмыслении.
Периодически эти два рукава сливаются в единый поток. Руссо, Толстой, Макаренко и Сухомлинский вошли в историю педагогики как авторы философских художественно-публицистических произведений. Но на материале их художественного творчества защищены сотни научных диссертаций. Таким образом, между обеими педагогиками не существует непроницаемой стены. Различие же между ними, на мой взгляд, проявляется в методах постижения педагогической действительности, среди которых достойное место занимает метафора.
Использование метафор в сфере образования для понимания и конструирования педагогических явлений все больше привлекает внимание исследователей. М.В. Кларин рассматривает метафору как гносеологический инструмент, средство познания, в отличие от традиционного понимания метафоры как одного из средств поэтического мышления и языка[5]. В метафорическом способе осмысления педагогической реальности заключается несомненное достоинство художественной педагогики. Она не так технологична, как научная, но зато более ориентирована на глубинные ценности и смыслы образования.
Да, художественное осмысление жизни всегда субъективно. Однако субъективность в гуманитарных исследованиях не только неизбежна и принципиально неустранима, но является дополнительным источником познания, а самое главное, она позволяет среди всех прочих проблем выделить ключевые – те, без решения которых невозможно в конечном итоге рассчитывать на успех даже в сугубо технологических прикладных сферах педагогической деятельности.
В основе же подлинной педагогики, равно как и серьезного художественного творчества, как правило, лежит фундаментальное переживание.
Немецко-американский философ Ганс Йонас в своей программной статье «Наука как персональный опыт» признается:
«Теперь уже не удовольствие, доставляемое познанием, но страх перед грядущим или же страх за человека становится здесь основным мотивом мышления, и оно само делается здесь деянием уже именно ответственности, понятие которой в нем разрабатывается и сообщается»[6].
Именно страх за человека – тот ведущий мотив педагогического творчества, который не позволяет сегодня думающему, совестливому педагогу получать удовлетворение от решения только частных прикладных вопросов обучения. Известная когнитивная эмоция – радость познания – не исчезает совсем, но, наряду с ней, возникает творческая энергия сострадания и боли.
Углубление переживания, таким образом, выступает в двух своих ипостасях: как эмоциональный стимул научно-педагогической деятельности и, вместе с тем, как особый способ познания, синтезирующий научное и художественное творчество. Педагогика переживания вмещает в себя и рациональную логику научного исследования, позволяющую получить беспристрастный анализ или, выражаясь медицинским языком, диагноз реальности, который может быть совсем не радостным. Но что толку в пессимистических констатациях, если мы не пытаемся найти выход из создавшегося положения. Попытки же эти даются огромным напряжением не только интеллектуальных, но, в первую очередь, нравственных сил, побуждающих человека и педагога действовать иногда даже вопреки здравому смыслу с минимальной надеждой на успех.
«Основания для скепсиса имеются, однако права на фатализм, который был бы в данном случае самоисполняющимся, нет абсолютно никакого. Знание никогда не должно отказывать в шансах самому себе. При всей неуверенности оно должно исполнять свой долг»[7].
Да, в человеческой истории бывают такие мрачные периоды, когда культура «проседает», происходит срыв в бездну нового варварства, где высвобождаются первобытные пещерные инстинкты человека. Но и тогда люди культуры не имеют право на капитуляцию.
В конце концов, миф о Сизифе можно рассматривать не только в пессимистическом ключе наказания героя бессмысленным трудом, но как метафору, отражающую суть существования культуры. Каждый раз при очередном обвале начинать все сначала, мобилизуя все имеющиеся культурные ресурсы, – иного пути нет у человека культуры, будь он художником, кабинетным ученым или педагогом-практиком. Вне зависимости от рода занятий, как уже неоднократно отмечалось выше, ведущим мотивом деятельности является принцип ответственности, окрашенный глубоким личным переживанием.
В истории были, есть и всегда будут люди, чье творчество, жизнь и судьба являются невидимым противовесом (метафора Г. Померанца) хаосу, абсурду, ценностной дезориентации. О таких людях – некоторых из них я считаю своими Учителями – также пойдет разговор в этой книге. Что придавало им силы сохранять человеческий облик в нечеловеческих обстоятельствах? Внутренняя свобода и страх за человека!
Уроки их жизни позволяют внятно сформулировать центральную задачу воспитания. Главная сокровенная цель воспитания человека – это расширение пространства его внутренней духовной свободы, позволяющей сохранять человеческое достоинство даже в трагических обстоятельствах, в людоедских сообществах у последней черты. Все остальное – лишь производные от этой педагогической сверхзадачи.
Ищу Учителя
Мудрец Диоген шокировал сограждан, когда средь бела дня проходил по улицам города с горящим факелом, возглашая: ищу человека! Обыватели, как водится, крутили пальцем у виска, насмехаясь над чудаковатым философом. Спустя тысячелетия поиск Человека, судя по всему, не утерял актуальности. И невдомек было согражданам философа, что по улицам полиса проходил Учитель, призыв которого не был услышан и понят современниками. Вечная история, из которой стоит извлечь уроки.
В силу специфики профессии я всю свою сознательную жизнь ищу Учителей. Для кого? Прежде всего, для себя самого и лишь затем, в качестве директора школы, для своих учеников. Почему в такой эгоистичной последовательности?
Во-первых, потому что в духовной сфере трудно и даже невозможно передать ребенку то, чем не владеешь сам. Вчерашний раб не может воспитать свободного человека. А все мы родом из советского детства с полученной там родовой травмой, в результате которой приходится выдавливать из себя раба не по капле, как советовал А.П. Чехов, а ведрами.
В такой ситуации крайне важно видеть перед собой образы людей, чьи мысли не расходятся с поступками. Невольно стремишься подтягивать себя до их уровня, для чего неизбежно приходится напрягаться, вставая на цыпочки. Возникает неодолимое желание соответствовать их ясным, твердым представлениям о порядочности и достоинстве личности.
Но самое главное – это то, что «они умеют стоять ни на чем». Как в дивной сказке М. Энде из книги «Зеркало в зеркале». Человек уютно устроился на диске с горами, реками, лесами. Диск вращается в полусфере, вроде планетария, украшенного звездами и луной. Но вдруг небесный свод треснул и сквозь трещину глянула бездна. В бездне, ни на что не опираясь, стоит закутанная человеческая фигура, чем-то напоминающая Христа. И этот человек ни на чем зовет: «Иди ко мне!». «Я упаду, – отвечает человек на диске. – Ты – обманщик, зовешь меня в пропасть!» Трещина за трещиной, весь мир человека разваливается. Человек цепляется за обломки, а закутанный зовет его: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем, как звезды».
Все мы, стремясь удержать почву под ногами, в той или иной мере держимся за осколки идеологий, мифов, своих привычных представлений, страшась самостояния. Держаться ни на чем означает ощущать себя членом Царства Духа. (О чем писал С.И. Гессен.) Конкретное воплощение такой силы Духа мы находим в деятельности сотрудников Эрмитажа в период блокады Ленинграда. Они продолжали водить экскурсии по залам музея, подробно рассказывая о шедеврах, несмотря на то, что картины были вывезены и на стенах весели только рамы. При этом и искусствоведы, и посетители едва держались на ногах, превозмогая голод.
И еще. У подлинных Учителей отсутствуют рисовка, поза. Они никого не подавляют своей значительностью, не навязывают собеседнику собственных воззрений, не спешат осудить ошибочное суждение. Никогда не унижают оппонента, выставляя его в невыгодном свете, демонстрируя свое интеллектуальное превосходство. Для них «стиль полемики важнее предмета полемики» (Г. Померанц). Поэтому встречи и беседы с ними приносят невероятное интеллектуальное наслаждение. Мало кто из них получает широкое признание при жизни. Это о них, своих богах, своих педагогах, сказал поэт: «Орденов не дождались они – сразу памятники получают» (Б. Слуцкий).
Намного опережая свою эпоху, творцы невольно оказываются в одиночестве, которое стремятся преодолеть. Поэтому Диоген и не усидел в своей бочке, отправившись бродить по городу. Не популярности ищут они, а понимания.
Да, круг таких людей узок, но его можно и нужно расширять, взрыхляя почву, подготавливая людей к восприятию тех фундаментальных идей, которые не лежат на поверхности и потому для усвоения требуют напряженного сокровенного труда ума и сердца. Только глубоко усвоенная мысль может заставить не только иначе думать, но и иначе жить.
В этой подготовительной работе крайне важна фигура посредника, в качестве которого, по сути дела, выступает педагог. Посредник – переводчик с языка культуры – уважаемая и центральная роль в образовании.
Не все люди наделены талантом в равной мере. Встать вровень с гением – задача нереальная. Не беда. У каждого мастера могут быть свои подмастерья.
Однажды в беседе с Г.С. Померанцем я искренне выразил свое восхищение его эрудицией и глубиной мышления. Мастер улыбнулся и ответил метафорой. «Лестница Якова высока, но с каждой ступени видны звезды». В переводе на педагогический язык это означало: вы смотрите снизу вверх на меня, на вас – учителя вашей школы, а на них – их ученики. Так емкая метафора мгновенно обнажила заложенную в ней идею, указала ценностный ориентир и сформировала вдохновляющую мотивацию, необходимую для движения к поставленной цели. – Еще одно доказательство значения и роли метафоры для перевода с языка культуры.
В конце концов, педагогика non-fiction – тоже всего лишь метафора, призванная повернуть педагога лицом к реальной жизни. А по большому счету, в книге речь пойдет о культурно-исторической педагогике.
* * *И последнее предварительное пояснение, которое, надеюсь, поможет читателю погрузиться в проблематику книги. Обсуждение фундаментальных вопросов культуры может показаться ему далеким, оторванным от текущих злободневных проблем, которые приходится решать в процессе ежедневной педагогической деятельности. Но это далеко не так.
Почувствовать и осознать то, как сквозь тонкую ткань повседневных коллизий неизбежно просвечивают открытые вопросы, помогут разделы «Пореформенная мозаика», которые представлены после концептуальных глав книги. В них содержатся наблюдения и зарисовки, как раз позволяющие «за деревьями увидеть лес».
Глава II
Сторонники и противники прогресса
Этюды оптимизма: век нынешний и век минувший
Более ста лет тому назад увидела свет книга замечательного русского физиолога И.И. Мечникова «Этюды оптимизма». Чрезвычайно любопытно, подводя итоги истекшего столетия, обратиться к ней сегодня. Что провидел он в будущем, на что уповал и надеялся, в чем черпал источники своего неуемного оптимизма?
Будучи выдающимся естествоиспытателем, Илья Ильич естественным образом разделял веру в торжество разума, основанного на положительных знаниях и научном прогрессе, а рецепты счастья искал в «биологическом мировоззрении». Рациональное питание, борьба с кишечной палочкой, замена кефира кислым молоком, выдающаяся роль гигиены – все это, по его мнению, в грядущем веке должно было привести к продлению жизни, сохранению сил и способностей, а в итоге – к тихому безболезненному угасанию с ощущением блаженства. Такое вот счастье! А вдобавок еще и значительная государственная экономия:
«Когда приводящие к старости причины, такие, как невоздержанность и болезни, будут уменьшены или устранены, то не будет никакой надобности назначать пенсии лицам, достигшим 60–70 лет. Расходы на общественное призрение стариков, вместо того чтобы возрастать, будут прогрессивно уменьшаться»[8].
Более сильного прагматического аргумента в пользу здорового образа жизни, пожалуй, не найти. Однако не стоит иронизировать по поводу взглядов, высказанных более ста лет тому назад. Они принадлежат крупному ученому, дважды бывшему на грани добровольного ухода из жизни, неоднократно ставившему на себе самом смертельно опасные научные эксперименты. А не оправдавшийся прогноз – с кем ни бывает.
Тем не менее, есть один принципиальный вопрос, обостренный до предела всей историей двадцатого века. Для его прояснения придется воспользоваться обширной цитатой из книги И.И. Мечникова:
«Так как несомненно, что с прогрессом цивилизации великие бедствия человечества должны будут уменьшиться, а быть может, даже и вовсе исчезнут, то и жертвы, направленные против них, так же должны будут уменьшиться. Так геройство врачей, в былое время шедших ухаживать за чумными, сделалось теперь гораздо более редким, с тех пор как в противочумной сыворотке мы имеем верное предохранительное средство от этого бича… <..>
Самопожертвование при тушении пожаров сделалось более редким с тех пор, как стали строить более огнеупорные здания и усовершенствовали способ борьбы против огня.
Изобретение беспроволочного телеграфа, уменьшив опасность от кораблекрушений, тем самым устранило необходимость самопожертвования при спасении рискующих утонуть. Можно надеяться, что пример необыкновенного героизма, обнаруженного некоторыми пассажирами при гибели парохода „Titanic“, не возобновится более ввиду усовершенствований кораблестроения и мореплавания, сделанных после этой ужасной катастрофы.
Давно уже стал излишним героизм, поднявший руку Авраама для жертвоприношения единственного сына во имя веры. Человеческие жертвы, требовавшие проявления высочайшей нравственности, становятся все реже и, вероятно, в конце концов совсем исчезнут.
Рациональная нравственность, преклоняясь перед таким поведением, может, однако, более не считаться с ним…»[9] (Выделено мной. – Е.Я.)
Если бы так. К сожалению, двадцатый век потребовал несметное количество героических жертв даже не во имя проявления высочайшей нравственности, а просто ради сохранения элементарной порядочности. После всего случившегося не считаться с таким поведением невозможно. Почти религиозная вера в прогресс, обеспеченный поступательным развитием науки и техники, упование на светлое будущее, которое неизбежно наступит в силу рационализации жизни и морали, (!) – эти источники избыточного оптимизма в истекшем столетии иссякли, оказавшись опровергнутыми всем ходом истории.
Увы, никому в мире ни до, ни после И.И. Мечникова еще не удавалось найти рациональное обоснование нравственности. Таким образом, весь последующий ход событий привел к диаметрально противоположному выводу: одновременно с бурным развитием цивилизации нравственные проблемы не только не исчезают, но, напротив, приумножаются и углубляются. Именно от их творческого решения зависит сегодня судьба человечества, вплоть до его физического сохранения. Такое положение, в свою очередь, приводит к многократному усложнению воспитательных задач. Казалось бы, сказанное столь очевидно, что не нуждается в обстоятельном разъяснении. Но, несмотря на пугающие реалии истекшего и наступившего столетий, инерция рационализма, заданная позапрошлым веком, продолжает действовать и поныне, определяя образовательную стратегию.
Между тем, огнеупорные здания продолжают гореть, лайнеры, оснащенные современными навигационными средствами, тонуть, атомные реакторы взрываться, самолеты падать. При анализе причин большинства техногенных катастроф на первое место выходит так называемый человеческий фактор. В переводе с технократического на педагогический язык фактор этот можно назвать незавершенностью развития личности в результате ее по-прежнему одностороннего, преимущественно технократического, узкопрагматического воспитания. На словах это, разумеется, признается, но на деле никак не влияет на изменение вектора развития образования. Отчего так? Объяснять это только инерцией, глубоко укоренившейся традицией, косностью и умственной ленью педагогов – значит упустить из вида очень глубокую, едва ли не ментальную, педагогическую эмоцию, окрашивающую смысл, ценность и цели педагогической деятельности. Имя ей – вера в просвещение. Она-то и оказалась подорванной в двадцатом веке.
Наиболее беспощадно в середине прошлого века эту мысль выразил прошедший все круги ада писатель Варлам Шаламов:
«Время показало, что так называемая цивилизация – очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы – главная задача искусства, философии, политических учений»[10].
Прямо из недр Третьего рейха В. Шаламову вторит В. Клемперер, которого постоянно мучила и приводила в отчаяние мысль об осязаемой связи преступной сущности нацизма с прежним духовным богатством Германии:
«Тогда впервые меня осенило, что все самое лучшее и самое худшее в немецком характере все же следует возводить к общей и неотъемлемой основной черте, что существует связь между зверством гитлеровского режима и фаустовскими взлетами немецкой классической поэзии и немецкой классической философии»[11].
Этой ключевой чертой немецкого характера В. Клемперер считает отсутствие во всем меры:
«„Беспредельность“ (Entgrenzung) – это ключевая установка, ключевое свойство романтического человека, в каких бы конкретных формах ни выражалась его романтическая сущность – в религиозных исканиях, в художественных образах, в философствовании, в жизненной актуальности, в нравственных поступках и преступлениях»[12].
Согласитесь, при таком понятном (после всего случившегося в XX веке) пессимистическом взгляде на роль культуры в целом (следовательно, и на усилия образования) в совершенствовании человека любые педагогические старания теряют всякий смысл. Но с подобным настроением в нашей профессии не проживешь. Отсутствие оптимизма для нее убийственно, как принято говорить в последнее время – контрпродуктивно. Что толку впадать в мировую скорбь, констатируя непоправимость ситуации? Вот почему наше сознание, отгоняя от себя неприятные, парализующие волю мысли, так цепляется за привычные, все те же старые (времен И.И. Мечникова) прагматические позитивистские начала педагогического оптимизма: веру в конечное торжество разума, поклонение техническому прогрессу, иллюзию построения морали и жизни исключительно на рациональных основаниях.
Необходимостью «делать дело» объясняется инерция рационализма, доминирующая в современном образовании, нацеленном, прежде всего, на информационное накопление и получение прагматических результатов. При таком прагматическом подходе открытыми вопросами философской этики можно легко пренебречь.
На Западе мы наблюдаем ту же картину. Шок, вызванный Холокостом, породил кризис веры в просвещенческую парадигму, воплотившийся в крылатой фразе Теодора Адорно: невозможно писать стихи после Освенцима.
Что отнюдь не помешало известному американскому психологу Б.Ф. Скиннеру сразу после войны выражать уверенность в торжестве прогресса и предлагать идеальные модели обучения.
Известно, что модели обучения несут в себе контуры образов будущего. Базовая технологическая модель обучения Б.Ф. Скиннера несла в себе образ будущей «школы-машины» как социально-образовательного механизма. Создатель и выразитель «технологии педагогических методов» выступил как писатель-фантаст и социальный мыслитель, опубликовав роман «Уолден-2» (1948), в котором представил свой идеал нового справедливого социального устройства – счастливое утопическое общество будущего, где методы «модификации поведения» позволяют людям чувствовать себя довольными и счастливыми.
Скиннер полемично сопоставил название своего романа со знаменитым произведением американской и мировой литературы – романом Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), в котором воплощена идея отказа от суеты цивилизации, опоры на собственный труд ради уединения и созерцательной близости к природе.
Книга Скиннера перекликается по духу с социалистическими идеалами Н.Г. Чернышевского в романе «Что делать?» (1863). По иронии судьбы, роман Скиннера вышел в то время, когда Дж. Оруэлл заканчивал свой антиутопический роман «1984» (издан в 1949 г.), в котором описан кошмар общества тотального контроля над человеком.
В книге «По ту сторону свободы и достоинства» (1971) Б.Ф. Скиннер последовательно развил идею о том, что представления о свободе и достоинстве – это ложные порождения человеческой фантазии, которые мешают построить по-настоящему счастливое жизнеустройство; моделированию и управлению в человеческом поведении поддается всё, даже непредсказуемые «движения души». Здесь Б.Ф. Скиннер впрямую спорит с идеей Ф.М. Достоевского о непредсказуемости человеческой природы и неуправляемости человека, по сути, продолжая полемику, начатую в общественной жизни России 1860-х годов.
Машина времени Скиннера движется в будущее полного контроля. Ошибочно полагать, считал он, что вся проблема в том, как освободить человека. Проблема в том, как улучшить способы контроля над ним.
Радостное будущее, основанное на правильном жизнеустройстве, воодушевляло и А.К. Гастева. Его идеал – механически точно выверенное обучение, построенное на механических шаблонах-«направителях», которые соответствовали бы образам разумного социалистического рая. К нему и должна была привести идеальная технологическая машина обучения, создаваемая Центральным институтом труда.
* * *Наступившее новое тысячелетие продолжает наносить сокрушительные удары по адептам технического прогресса. 11 сентября 2001 года и Беслан – тому неоспоримые примеры. Но и эти грозные доказательства, свидетельствующие о том, что от открытых вопросов невозможно отмахнуться, не мешают рисовать радужные сценарии будущего. Вот один из новейших оптимистических прогнозов, подготовленный аналитиками компании «Volva»:
2019 г. – бионический глаз вернет слепым зрение;
2020 г. – люди перестанут гибнуть в автокатастрофах;
2023 г. – появятся протезы для памяти;
2025 г. – 3D принтеры заменят авиаперевозки;
2029 г. – машины научатся думать;
2035 г. – беспилотные автомобили захватят рынок.
Такие вот обнадеживающие прогнозы. Разумеется, не все разделяют веру во всесилие науки. Философ, врач, подвижник, четверть века лечивший аборигенов в джунглях Центральной Африки, А. Швейцер писал: «Мое знание пессимистично, но моя вера оптимистична».



