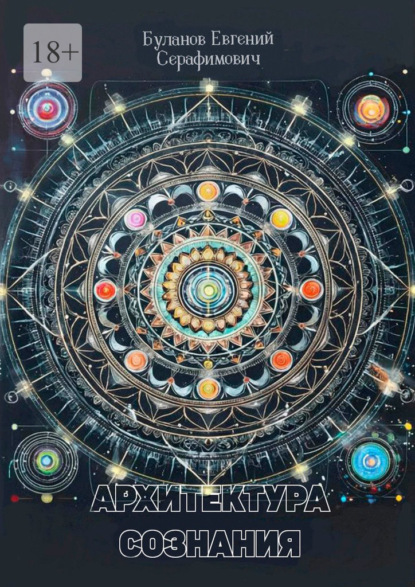
Полная версия:
Архитектура сознания
Теории Высокого Порядка (ВПП) Дэвида Розенталя: «Может, секрет в рефлексии?» – размышляет Виктор. «Согласно ВПП, состояние (например, „вижу красное“) становится сознательным, когда у нас появляется мысль высшего порядка об этом состоянии: „Я осознаю, что вижу красное“. Сознание – это ментальное представление о наших собственных ментальных состояниях. Мозг не только воспринимает мир, но и „сканирует“ собственные восприятия. Элегантно… но тогда возникает вопрос: а как осознается сама мысль высшего порядка? Нужна мысль еще более высокого порядка? Бесконечная регрессия?»
И тут Виктор натыкается на самую радикальную, идущую вразрез с интуицией, но логически возможную позицию – Эпифеноменализм. Еще Томас Гексли в XIX веке сравнивал сознание с параллельным дымом от паровоза. Паровоз (мозг) производит пар (нейронные процессы), который приводит его в движение (поведение). Дым (сознание) – это побочный продукт, эпифеномен. Он не влияет на движение поезда! Сознание не имеет причинной силы. Все наши решения, поступки, слова обусловлены бессознательными нейронными процессами. Сознание – лишь «тень», иллюзия контроля, бесполезный, но неизбежный спутник сложной мозговой активности. «Значит,» – содрогается Виктор, «мои мысли о свободе воли, мои чувства, мой поиск истины – всего лишь „шум“ работающего биокомпьютера? Зритель, которому кажется, что он режиссер?»
Эта мысль кажется кощунственной. Весь наш опыт говорит: я решил, я почувствовал, я действую! Но нейронаука показывает: нейронные процессы предшествуют осознанию решения на доли секунды (эксперименты Либета). Мозг часто принимает решение до того, как «я» осознал выбор.
Виктор встает и подходит к окну. Город спит. Его собственный мозг, уставший, но упорный, генерирует поток мыслей и чувств. Наука рисует картину, где мозг – безусловный хозяин сознания. Она объясняет корреляции, механизмы доступа, необходимые условия. Но саму суть субъективного переживания – «ткань» сознания – она пока не может схватить. IIT, ГРП, ВПП – это блестящие карты нейронных процессов, сопровождающих сознание, но не сам внутренний огонь. Эпифеноменализм логичен, но обесценивает саму сердцевину человеческого бытия.
«Так что же?» – вопрос висит в ночной тишине. «Мозг – генератор или ресивер? Сознание – эпифеномен или фундаментальное свойство? Может, ответ лежит не в споре, а в синтезе? Может, квантовая физика, изучающая самую основу материи, подскажет, как объективное рождает субъективное?» Виктор включает компьютер. Впереди – погружение в загадочный мир квантового сознания, где строгие законы физики встречаются с тайной внутреннего мира. Лабораторная ночь еще долгая, и самая глубокая тайна ждет своего часа.
1.4.3 На Перекрестке Миров: Искры Синтеза в Океане Вопросов
Тишина лаборатории после полуночи казалась особой, наполненной гулом собственных мыслей Виктора. Экран с затухающими нейронными паттернами медитирующего монаха был выключен. Перед ним теперь лежали два мира, представленные книгами: монография по когнитивной нейронауке и потрепанный том «Тайной Доктрины». Между ними – пропасть, которую предстояло если не перейти, то хотя бы измерить. И главный вопрос, как натянутая струна, звучал в его сознании:
Главный Вопрос: Где рождается свет?
Продукт ли это? Сознание – сложный, изумительный, но результат работы триллионов нейронов, их электрических всплесков и химических дождей. Мозг – фабрика, и сознание – ее конечный, возможно, даже необязательный или иллюзорный (как эпифеномен) продукт. Весь опыт Виктора в нейронауках кричал: да, корреляции слишком очевидны, слишком неоспоримы! Повреди мозг – измени сознание. Измени химию – трансформируй восприятие. Сканируй – и увидишь его нейронные узоры.
Или Фундамент? Сознание – изначальное свойство самой ткани реальности, как пространство или время. Мозг – не генератор, а скорее приемник, фильтр, фокусирующая линза для этого универсального поля сознания (панпсихизм), или даже единственная истинная реальность (идеализм), а материя – ее проявление. Теософский взгляд с его «Принципами» и многомерными телами человека – лишь одна из попыток описать, как это вездесущее сознание индивидуализируется и взаимодействует с различными планами бытия.
Виктор откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Он представлял не мозг, а ощущение. Ощущение прохлады стакана в руке. Qualia. Вот она – неразрешимая загадка для нейронаук.
Вызовы Нейронаукам: Стена Qualia и Призрак «Я»
1. Qualia (Квалиа): Красное, Которое Никому Не Передать. Виктор мысленно представил спелую клубнику. Ее красный цвет – это не просто длина волны света, активирующая колбочки в сетчатке, и не вспышка в затылочной коре. Это субъективное переживание красного. Как, каким чудом электрический импульс, бегущий по аксону, превращается в чувство красноты, его теплоту, насыщенность? Почему один и тот же нейронный паттерн у разных людей (предположительно) вызывает одинаковые ощущения? Или не вызывает? Наука описывает процессы, ведущие к восприятию, но само качество ощущения – его «краснота», «кислотность лимона», «острота боли» – остается запертым в индивидуальном опыте. Это и есть «Трудная проблема» Чалмерса – непреодолимая стена между объективными процессами и субъективным чувством.
2. Природа Самости: Кто Слушает этот Внутренний Голос? Нейронаука успешно локализует области, связанные с автобиографической памятью, самовосприятием, принятием решений (та самая сеть пассивного режима – DMN). Но где живет само ощущение «Я»? Это устойчивое чувство, что «я» – это тот, кто видит, слышит, думает, чувствует. Является ли оно просто удобной иллюзией, созданной мозгом для эффективного управления телом и поведением (как предлагает Деннет)? Или оно указывает на нечто более глубокое – на тот самый «Атман», «Высшее Я» эзотерических традиций, которое лишь временно отождествляется с телом и умом? Когда в глубокой медитации или под психоделиками DMN затихает и чувство «я» растворяется – что остается? Пустота? Или чистое сознание без границ? Наука пока не может дать ответ, что переживается в этом состоянии растворения.
Виктор открыл «Тайную Доктрину». Там говорилось о тонких телах, перевоплощениях, космической эволюции духа. Красиво, масштабно… но.
Вызовы Теософии/Эзотерике: Бремя Доказательств
1. Верификация Незримого. Как доказать существование астрального или ментального тела? Как измерить «карму» или поток «праны»? Эзотерические концепции часто существуют в сфере личного опыта, веры и традиции. Для науки этого недостаточно. Где воспроизводимые эксперименты? Где приборы, фиксирующие «тонкие энергии» вне субъективных ощущений? Виктор вспомнил критику лженауки – слишком много спекуляций под видом «тайного знания». Теософия предлагает грандиозную карту реальности, но где компас, чтобы по ней идти и убедиться, что она верна? Без строгой верификации эти идеи остаются в области метафизических предположений, а не научно обоснованных фактов.
2. Опасность Догматизма. Любая система знаний, претендующая на абсолютную истину, рискует превратиться в догму. Виктор опасался, что слепая вера в «тонкие планы» может заменить собой честный поиск, заставить игнорировать неудобные факты нейронауки. Наука хороша тем, что она готова отказаться от своих теорий, если они не выдерживают проверки. Готова ли на это эзотерика?
Мосты Через Пропасть: Где Встречаются Два Берега?
И вот здесь, в этом напряжении, Виктор чувствовал не отчаяние, а азарт исследователя, стоящего на пороге неизведанного. Он видел области, где вопросы науки и метафизики пересекаются, где можно ставить эксперименты и искать точки соприкосновения. Это были не готовые ответы, а двери:
1. Квантовые Теории Сознания (Пенроуз-Хамерофф): Танцующие Микротрубочки. Виктор углубился в статьи. Роджер Пенроуз, гениальный физик, и Стюарт Хамерофф, анестезиолог, предположили невероятное: сознание может быть связано с квантовыми процессами внутри нейронов, а именно в их цитоскелетных структурах – микротрубочках. Эти крошечные трубочки могли бы поддерживать квантовые суперпозиции (объект в двух состояниях сразу) и квантовые запутанности (мгновенная связь на расстоянии) в масштабах, значимых для мозга. Коллапс этой квантовой волновой функции мог бы порождать моменты осознания. Почему это мост? Это попытка объяснить сознание не только классической нейронаукой, но и фундаментальной физикой. Если сознание коренится в квантовой нелокальности, это открывает дверь к идее его более фундаментальной, «разлитой» в реальности природы – близкой к панпсихизму или теософскому взгляду. Это научно обоснованная гипотеза, выводящая дискуссию за пределы классической механики мозга. Виктор чувствовал дрожь открытия: «А что, если мозг – не генератор, а усилитель квантовой сознательной субстанции?»
2. Исследования Измененных Состояний Сознания (Монро, LSD-Терапия): Выходя за Грань Обычного. Работы Роберта Монро о внетелесном опыте (ВТО) и современных исследований с психоделиками (псилоцибин, ЛСД) в терапии депрессии и ПТСР были невероятно важны. Виктор изучал данные ЭЭГ и фМРТ людей в этих состояниях. Он видел, как радикально меняется активность мозга: ослабляется DMN (чувство «я»), усиливается связь между обычно разобщенными областями, возникает ощущение единства, растворения границ, доступа к «иным» реальностям или глубинным слоям психики. Почему это мост? Эти состояния субъективно описываются как контакт с «иными измерениями», «коллективным бессознательным», «космическим сознанием» – терминологически близко к описаниям астрального или ментального планов в эзотерике. Наука же показывает, что эти переживания имеют четкие нейрофизиологические корреляты. Это не мистика «вне мозга», но и не просто галлюцинации. Это демонстрация невероятной пластичности сознания и его способности функционировать в режимах, радикально отличных от обыденного, давая опыт, который интерпретируется как встреча с многомерностью. Задача науки – понять природу этого опыта без спекуляций, но и без сведения его к «просто шуму в нейронах».
3. Исследования Околосмертных Переживаний (Пим ван Ломмель, Брюс Грейсон): Свет в Туннеле. Виктор внимательно читал отчеты Пима ван Ломмеля, кардиолога, исследовавшего ОСП у пациентов с остановкой сердца. Люди, чей мозг был клинически мертв (плоская ЭЭГ), позже детально описывали происходившее в операционной, видели себя со стороны, переживали встречи, чувство всеобъемлющей любви и света. Брюс Грейсон систематизировал эти переживания. Почему это мост? Это, пожалуй, самый острый вызов материалистическому взгляду. Если сознание – продукт мозга, как оно может переживаться при отсутствии его активности? Скептики ищут объяснения в гипоксии, выбросе эндорфинов, но некоторые случаи с точными деталями происходящего в момент «смерти» остаются загадкой. Для теософского взгляда это – прямое свидетельство существования сознания (тонких тел) вне физического мозга. Наука же обязана исследовать этот феномен с предельной тщательностью, не отвергая его априори. Это область, где вопрос «продукт или фундамент?» ставится ребром. Виктор понимал: если хотя бы один случай ОСП с верифицированными деталями при отсутствии мозговой активности окажется подлинным – это перевернет все.
Внутренний Диалог: Азарт Неизвестности
Виктор встал и подошел к окну. Городские огни мерцали, как нейроны в огромном мозге мегаполиса. Внутри него бушевало.
«Так где же правда, Виктор?» – спрашивал внутренний скептик, голос его строгого научного руководителя. «Мозг – все. Остальное – иллюзия, эпифеномен, или недоказуемые сказки. Держись фактов. Qualia? Эволюционная адаптация. Самость? Полезная фикция. ОСП? Галлюцинации умирающего мозга».
«Но почему тогда это так ощущается?» – возражал другой голос, голос того мальчишки, который впервые задумался о звездах и бесконечности. «Почему растворение „я“ под психоделиками чувствуется как освобождение, а не как распад? Почему переживания при ОСП столь реальны и трансформирующи? Почему квантовая физика, описывающая самую основу материи, допускает такие безумные вещи, как нелокальность? Может, мозг – не тюрьма сознания, а… шлюз? Антенна, настроенная на определенную частоту реальности? А есть и другие частоты?»
Он вспомнил слова одного старого профессора-физика: «Наука не должна бояться больших вопросов. Она должна задавать их с еще большей точностью».
Синтез? Пока не синтез. Но – диалог. Мощный, напряженный, плодотворный диалог. Нейронауки с беспощадной точностью показывают необходимость мозга для проявления сознания в нашем мире. Но они же упираются в стену субъективного опыта и задают вопросы, на которые не могут ответить в рамках чисто материалистической парадигмы. Теософия и эзотерика предлагают смелые, вдохновляющие картины многомерной реальности сознания, но страдают от недостатка строгой верификации и рискуют догматизмом.
Мосты – это не готовые дороги, а узкие тропинки над пропастью, наведенные смелыми идеями (квантовое сознание) и изучением предельных состояний (ОСП, измененные состояния). По ним нужно идти осторожно, с факелом научного метода в одной руке и открытостью к необъяснимому пока опыту – в другой.
Виктор повернулся от окна. Усталость ушла, сменившись ясной, холодной сосредоточенностью. Лабораторная ночь была еще долгой. На столе лежали распечатки статей по квантовой гравитации и нейрофизиологии микротрубочек. А рядом – дневники людей, переживших клиническую смерть.
Главный вопрос не был закрыт. Он стал только острее, ярче, важнее. От ответа на него зависело не просто понимание мозга, а понимание самой сути человеческого бытия: кто мы? Мимолетные искры в биологической машине? Или искры вечного Сознания, временно заключенные в плоть, чтобы познать самих себя?
Виктор включил компьютер. Курсор мигал на чистом листе. Он начал печатать заголовок новой главы: «Квантовая Пропасть: Сознание на Грани Известного». Приключение продолжалось. Самое важное приключение – поиск истины о себе. И желание узнать, что же будет на следующей странице, гнало его вперед, вглубь тайны, не давая остановиться.
Заключение: Эхо Века в Лабиринте «Я»
Первые лучи рассвета золотили верхушки зданий за окном лаборатории. Виктор отложил ручку, чувствуемую тяжесть мысли и легкость проделанной работы. Страницы исписаны, экран пестрит заметками. Перед ним лежал не просто итог главы – лежала карта великого противостояния, битвы идей, длившейся тысячелетия и определяющей, как мы видим самих себя сейчас.
Краткий Итог: Четыре Великих Рубежа
Он мысленно очертил основные линии разлома, как геолог отмечает пласты:
1. Дуализм vs. Холизм: Жесткий водораздел Декарта – Res cogitans и Res extensa, мыслящая субстанция и протяженная материя, непримиримо разделенные. И против него – древняя мудрость Востока и некоторые современные течения: сознание неотделимо от тела, энергии (Ци), космоса (Атман-Брахман), оно пронизывает все уровни бытия (коши, Трибхувана). Две картины: разделение и единство. Где правда? Или возможен синтез?
2. Материя Первична vs. Сознание Первично: Упорный материализм нейронаук: дайте мне мозг, его нейроны, синапсы, химию – и я объясню (или объясню в будущем) все богатство внутреннего мира. Сознание – эмерджентное свойство сложной материи. И против этого – стойкая убежденность идеализма, панпсихизма, теософии: сознание – фундаментальный атрибут реальности, как пространство-время; материя – его проявление или среда. Мозг не создает, а воспринимает, фокусирует изначальный Свет.
3. Редукционизм vs. Эмерджентизм: Стратегия разбора на винтики. Понять мозг – значит понять нейрон, понять нейрон – значит понять молекулу, и так до квантовых полей. Сознание сводится к этим процессам. Эмерджентизм же утверждает: целое больше суммы частей. Сознание – новое качество, возникающее при определенной сложности организации материи (мозга), несводимое полностью к свойствам отдельных нейронов. Как вода мокрая, хотя ни один атом водорода или кислорода сам по себе «мокротой» не обладает.
4. Научный Скептицизм vs. Метафизические Модели: Требование строгих доказательств, воспроизводимости, фальсифицируемости (Поппер), критика спекулятивных понятий вроде «торсионных полей» или «биоэнергий» без эмпирических оснований. И ему противостоят смелые, всеобъемлющие, но часто трудно проверяемые картины реальности – от многомерных тел человека до космической эволюции духа в теософии. Где проходит граница между смелой гипотезой и ненаучной спекуляцией?
Актуальность: Почему Эти Дебаты Живы Сегодня?
Виктор встал, потянулся. За окном просыпался город – миллионы мозгов, миллионы миров сознания. Эти древние вопросы не были пыльной историей. Они жгли современность:
Искусственный Интеллект: Может ли машина осознавать? Если сознание – лишь сложный алгоритм (функционализм), то – да. Если же в нем есть неуловимая субъективность (квалиа), фундаментальная «внутренность» – то принципиально нет. Ответ определяет будущее человечества и его творений.
Медицина и Психическое Здоровье: Понимаем ли мы действительно, что происходит при депрессии (это «химия» или «кризис духа»? ), шизофрении, при измененных состояниях? Эффективное лечение требует адекватной модели сознания.
Смысл Человеческого Существования: Являемся ли мы случайными скоплениями нейронов в безразличной вселенной (эпифеномен)? Или наше сознание – часть великого Космического Разума, а жизнь имеет глубинный смысл и направление (теософский, идеалистический взгляд)? Ответ на это влияет на наши ценности, этику, выбор пути.
«Трудная Проблема» (Qualia и Самость): Стена, о которую бьется современная наука. Как объективные процессы рождают субъективный опыт? Где живет «Я»? Эти вопросы – прямое продолжение дебатов Платона, Декарта, споров материалистов и идеалистов. Они не решены, они лишь обрели новые, более точные формулировки.
Переход: Квантовый Рубеж – Ключ к Тайне?
Виктор подошел к доске, где еще висели схемы нейронных сетей и ведических кош. Он стер их и написал крупно: «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СОЗНАНИЕ».
Историко-философская разведка завершена. Карта намечена. Но главная крепость тайны – как сознание возникает или проявляется – все еще неприступна для классических подходов. Нейронаука показала где (мозг) и как коррелирует, но не почему существует само чувствование. Философия предложила великие нарративы, но не предоставила инструментов для их проверки.
Следующая глава – прыжок в неизведанное. Виктор чувствовал прилив азарта, знакомый с детства, когда открывал книгу о звездах. Современная физика, особенно квантовая механика, изучающая самую причудливую, неинтуитивную основу материи, предлагает новые возможности.
Может ли квантовая нелокальность (связь частиц через пространство мгновенно) объяснить единство сознания?
Может ли квантовая суперпозиция (частица в двух состояниях сразу) быть основой неопределенности мысли, свободы выбора?
Являются ли микротрубочки в нейронах (гипотеза Пенроуза-Хамероффа) тем самым местом, где квантовый мир взаимодействует с макромиром мозга, порождая моменты осознания?
Может ли сознание быть фундаментальным полем, а мозг – сложным детектором и интерпретатором его флуктуаций?
Это был рискованный рубеж. Квантовые теории сознания часто критикуют. Но Виктор видел в них не готовый ответ, а мощный инструмент, новый язык, на котором можно заново сформулировать древние вопросы и, возможно, приблизиться к ответам. Это была попытка преодолеть дихотомию «материя vs. сознание» на фундаментальном уровне, найти общий корень.
Он посмотрел на стопку свежих статей по квантовой биологии и нейрофизиологии. В них не было грандиозных космогоний Блаватской, но была математическая строгость, проверяемые гипотезы, смелые эксперименты. Здесь, на стыке физики самого малого и тайны самого внутреннего, могла зарождаться подлинно новая парадигма.
Заключительный Внутренний Монолог: Вперед, к Основам!
«Итак, старые карты изучены,» – подумал Виктор, ощущая усталость, но и невероятную ясность. «Мы увидели пропасти между Западом и Востоком, между материей и духом, между анализом и целостностью. Мы ощутили стену „Трудной Проблемы“. Нейронаука дала нам невероятные инструменты, но не дала ключа к самой сокровенной комнате. Философия нарисовала величественные здания, но не всегда могла доказать их устойчивость.»
Он подошел к окну. Город был залит утренним светом. Миллионы людей начинали свой день, не задумываясь о микротрубочках или Res cogitans. Но в каждом из них горел тот же неугасимый огонек субъективного опыта – та самая загадка.
«А что, если ключ лежит глубже? Глубже нейронов, глубже молекул? Что, если нужно спуститься туда, где сама материя теряет привычные очертания, где царят вероятности и нелокальные связи? Что, если сознание – не надстройка и не призрак, а нечто, вплетенное в самую ткань реальности?»
Чувство было не просто любопытством. Это было зовом приключения. Приключения, которое начиналось не в джунглях или горах, а в странном, парадоксальном мире квантовой физики и в непостижимых глубинах человеческого мозга. Приключения, обещавшего не сокровища, а понимание – возможно, самое ценное сокровище из всех.
Виктор взял первую статью из стопки: «Квантовые процессы в цитоскелете нейронов: возможный субстрат сознания?». Он улыбнулся. История продолжалась. Самые важные главы – впереди. И желание узнать, что же скрывается за квантовым рубежом, было сильнее усталости. Оно гнало вперед, в неизвестность, с тем самым «неистребимым желанием читать дальше», которое и есть сама суть пытливого человеческого духа.
Лаборатория наполнялась утренним светом и тихим гулом начинающегося дня. Но для Виктора начиналась новая ночь погружения – на этот раз в загадочный мир, где частицы танцуют, а сознание, возможно, рождается из самой ткани мироздания. Курсор на экране замигал на чистой странице новой главы.
Глава 2. Сознание в Квантовой Парадигме: Танцующие Частицы и Внутренний Свет
Стоя перед огромной маркерной доской, забитой уравнениями Шрёдингера, запутанными интегралами и схемами нейронных сетей, Виктор чувствовал знакомое напряжение на грани прорыва. Лаборатория тихо гудела – мерцание серверов, едва слышный гул вентиляции. Воздух был пропитан запахом старой бумаги, свежего кофе и чего-то неуловимого – запахом поиска. Историко-философская экспедиция завершилась картой великих дихотомий: дуализм против холизма, материя против духа, мозг-генератор против мозга-приемника. Но стена «Трудной проблемы» – как объективные нейронные процессы рождают субъективное переживание красного, боли, самого «я» – оставалась неприступной.
Он провел пальцем по контуру уравнения, описывающего волновую функцию. Ψ. Этот символ, такой простой на вид, был ключом к миру, где здравый смысл терпел поражение. Миру, где частица могла быть в двух местах одновременно, где мгновенная связь через космические расстояния была реальностью, где сам акт наблюдения менял поведение системы. Миру квантовой механики.
«Что если… – голос Виктора прозвучал в тишине лаборатории, обращаясь скорее к самому себе, чем к пустым стульям, – что если мы искали ответ не там? Что если ключ к тайне сознания лежит не над материей и не под ней, а внутри ее самой основы? В этом странном, парадоксальном царстве, где материя перестает быть просто твердой, предсказуемой вещью?»
Он вспомнил свои первые столкновения с квантовой загадкой в университете. Эксперимент с двумя щелями. Казалось бы, просто: поток частиц – электронов или фотонов – летит на экран с двумя прорезями. Позади – детектор, показывающий, куда они попадают. Логика подсказывает: частица проходит либо через левую щель, либо через правую, оставляя на детекторе две четкие полосы напротив щелей. Но реальность, как всегда, оказалась причудливее.
Без наблюдения за щелями, когда никто не пытался выяснить, куда именно летит каждая частица, на детекторе возникала интерференционная картина – чередование светлых и темных полос. Как будто частицы, проходя через щели, вели себя как волны, интерферируя друг с другом! Но частицы – это же маленькие шарики, разве нет? Оказывается, нет. Или не всегда. Когда они не наблюдаются, они существуют в состоянии суперпозиции – словно призрачная волна вероятности, проходящая одновременно через обе щели.
А теперь – главная магия. Стоило поставить детектор у одной из щелей, чтобы точно узнать, через какую щель пролетает частица, интерференционная картина исчезала. На детекторе позади появлялись всего две четкие полосы. Частицы вдруг начинали вести себя как «нормальные» частицы, проходя строго через одну щель. Сам акт наблюдения, сам факт попытки узнать конкретный путь, заставлял волновую функцию коллапсировать. Возможность превращалась в факт. Потенциал – в реальность. Частица «выбирала» путь.
Виктор нарисовал схему на доске, его движения были точными, почти резкими. «Вы видели это? – спросил он воображаемого собеседника, указывая на схему. – Частица ведет себя по-разному в зависимости от того, смотрим мы на нее или нет. Как она „знает“? Что такое это наблюдение? Просто ли это взаимодействие с другим физическим объектом – детектором? Или…» Он сделал паузу, мел замер в его руке. «Или здесь играет роль что-то большее? Нечто, что делает детектор инструментом познания, а не его причиной?»



