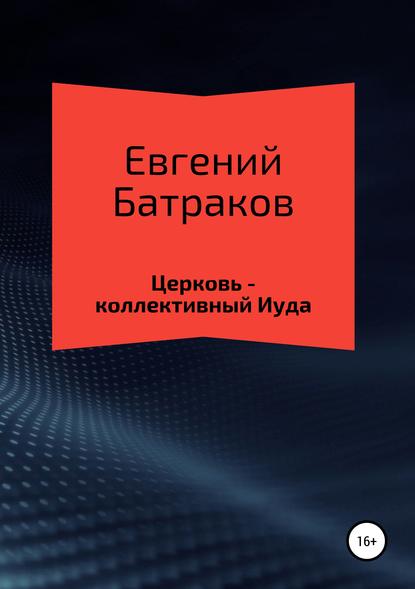 Полная версия
Полная версияЦерковь – коллективный Иуда
А велики ли вообще барыши от торговли церковными свечами?
Д.И. Ростиславов (1809–1877), профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии в свое время тщательно изучавший и этот вопрос тоже, и для своей книги «Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей (1872–1876)», посетивший около двадцати губерний, предоставил следующие факты: «Восковые свечи в цельном их виде обыкновенно продаются в церквах вдвое дороже, чем они были куплены самими церквами. На самом же деле доход от них бывает гораздо более, нежели в 100 %. <…> …в Короцкой женской общине в 1874 г. куплено было 4 ½ пуда восковых свеч на 137 р. 50 коп., а от продажи их в церкви выручено 374 р. 91 коп., следовательно, более, нежели 272 %» [362].
Еще пример, более впечатляющий мы находим в Отчете VIII-го (ликвидационного) Отдела Народного Комиссариата Юстиции VIII-му Всероссийскому Съезду Советов: «…за 1919 год доход с одной только Иверской часовни при покупке свечей из советских складов по цене 6000 руб. за пуд и при продаже их беднякам, толпящимся у Иверской по 200–300 р. за свечу, что давало 60.000 руб. ежедневно. Общий доход за весь 1919 год выразился в сумме 20.000.000 руб.» [363].
Конечно, в данном случае мы можем говорить, если использовать терминологию тех лет, только о самой бессовестной спекуляции, прикрытой выспренными словесами о жертве Богу, о выражении свечкоставителем молитвенного прошения, и о том, что свеча своим сиянием изгоняет мрак вокруг, и что свет ее, якобы, это свет божественный, тот, который принес в мир Иисус… Какую только чушь не выдумают люди лишь для того, чтобы дурачить доверчивых и зарабатывать на том деньги!
Один из искреннейших людей нашего времени, актер и музыкант П.Н. Мамонов 5 июня 2019 г. в Twitter написал: «С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения – всё мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом. А не какие-то оккультные и магические действия. Хоть опейся святой водой – ничего не будет, если не будешь менять своё сердце, свои мысли, свою жизнь».
И ведь действительно: какова ж бессмыслица все эти посты, поклоны, крестные знамения, причащения и молитвы?! Человек, полагая, что он в здравом уме, ничуть не краснея и не моргнув глазом, вдруг заявляет во всеуслышание: «Я пришел к Богу». Дорогой, как ты узнал, к кому ты пришел, и пришел ли? Кто-то утверждает, что услышал ответ Бога на свой вопрос!? Услышал? Это был голос в собственной голове или всего лишь голос с небес?..
Сегодня наконец-то начали выводить на чистую воду мошенников, называющих себя экстрасенсами, колдунами, ведунами, эзотериками и прочими. Вышел даже фильм-расследование Бориса Соболева «Идущие к черту». И это хорошо. Но ведь тем же самым – мошенничеством, вымогательством, одурачиванием – занимается при поддержке, в том числе, и при финансовой поддержке государства, духовенство Русской православной церкви!?..
К сожалению, пастырям-мошенникам от РПЦ охотно подыгрывают сами же овцы и бараны антихристианского «Божьего стада», бездумно принимающие на себя роль смиренно ведомых. Это люди с психологией человека толпы. Толпы в том смысле, как ее понимал В.Г. Белинский: «…толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, другими словами – из людей, которые
Не могут сметь
Свое суждение иметь» [364].
Вот своего-то суждения у верующих и нет. Нет не у тех, кто верует в Бога – веру в Бога я принимаю без претензий и каких бы то ни было оговорок, нет своего суждения у тех, кто слепо признал авторитет церкви, принял на веру, ни единожды ни в чем не усомнившись, жития святых – липкий свод небылиц, принял саму святость святых, якобы, проживших жизнь праведно и достойно, и ныне существующих в церковном предании, как надежная укоризна всем нам еще живущим, живущим, конечно же, во грехе и беззаконии, принял догматику и Православный катехизис – плоды умственных забав и воспаленного воображения, принял традиции со всеми их, в том числе, вздорными предписаниями, принял надобность икон, обрядов и свечей…
Задумывался ли хоть раз в своей жизни сам верующий над тем, каким же образом, например, свечка, поставленная на кандилу в храме, способна так воздействовать на Бога, что Он снизойдет до милосердия, и соизволит внести коррективы в ваше проблемное настоящее и в ваше непредсказуемое будущее? Ваша жертва Богу – горящая свечка, столь же бессмысленна, как и жертвенный младенец, заживо сжигаемый дикими финикийцами ради успешного исхода того или иного события. Свеча и ребенок, приносимые в жертву – это магический ритуал, т. е. ритуал воздействия на незримые силы, с целью повлиять на события, но… нужны ли Богу ваши жертвы? Быть может, Ему нужно лишь ваше поведение, осуществляемое в соответствии с заповеданным? И нужно оно – поведение – еще и вам, поскольку только тогда вы и избавитесь от своих страданий. При этом, конечно же, нужно иметь в виду, что даже жизнь, проживаемая в строгом соответствии с заповедями, способна изменить далеко не все: как ни веди себя, дважды два не станет восемь. Если вы уродились Квазимодой, как ни молись, даже с самыми большими свечками, с поклонами, с ползанием по полу и целованием икон, Бог не перетворит вас в Алена Делона. Он не способен нарушать Свои же собственные Законы, ибо результат нарушения Законов и есть Зло. Зло есть деяние, отрицающее существующий Закон. Только уже существующие Законы ограничивают всемогущество Бога и Его всеблагость.
Если гарант Конституции страны нарушает Конституцию, она перестает быть Конституцией, а он – ее гарантом. Бог, нарушающий Свой собственный Закон, уже не Бог, а Закон – не Закон. Бог – Бог и Гарант только в том случае, если Закон непоколебим даже в том случае, если результатом сохранения Закона оказываются страдания и смерть.
В дополнение к двум, выше уже приведенным примерам, спекулятивного характера торговли церковными свечами, присовокупим еще один – из блестящей работы М.Ю. Эдельштейна «Церковная экономика центральной России: приход, монастырь, епархия»: «Вообще чистая прибыль любого храма от торговли свечами очень велика. Как мы уже говорили, большинство приходов закупают свечи на епархиальном складе по цене от 25 (в Костроме) до 40 руб. (в Иванове) (0,9–1,5 долл. по курсу на 1 января 2000 г.) за стандартную двухкилограммовую пачку. Самые тонкие свечи (№ 140) продаются в ивановских, костромских и ярославских храмах, как правило, по 50 коп. Таких свечей в пачке 705, следовательно, прибыль прихода от продажи одной пачки свечей составляет от 900 до 1400 %. Свечи чуть толще (№ 120) стоят обычно около 1 руб. В пачке 602 свечи, и прибыль уже превышает 1500 % для ивановских храмов и 2400 % для костромских. Максимальную прибыль приносят так называемые «средние» свечи (№ 100-60). Свечи № 100, которых в пачке 507, продаются в розницу по 1,5–2 руб., и прибыль от их продажи может доходить до 4000 % за одну пачку. Так называемые «восьмидесятки» (свечи № 80) в храме стоят 2–3 руб. В пачке 396 таких свечей, и прибыль от них достигает 3000–4750 %. Практически такую же прибыль приносят свечи № 60, которых в пачке 300 штук и цена которых в храме – 3–4 руб. Свечи с номерами от 40 до 20 традиционно относят к «толстым». Свечей № 40 в стандартной пачке 200 штук, стоят они в храме от 4 до 5 руб. Средняя розничная цена свечей № 30 – около 5 руб., а свечей № 20 – около 7 руб. В двухкилограммовой пачке таких свечей соответственно 154 и 102. Предел прибыли от торговли «толстыми» свечами в храмах Центральной России – 3000–4000 %» [365].
Прибыль более 4 тысяч процентов! Это даже спекуляцией назвать язык не поворачивается. Причем, вся эта архиспекуляция, скажем так, свечами в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 149, п.3, пп. 1) еще и не подлежит налогообложению, т. е. освобождается от налогообложения.
Освобождена от налогообложения и реализация религиозной литературы. Причем, церковники для своих предприятий заблаговременно пролоббировали через правительство и Государственную Думу разрешение торговать без кассовых аппаратов и литературой, и вообще предметами культа. Соответственно, вся прибыль от торговли поступает не только в церковный «общак», но и в собственный карман церковных коммерсантов.
По данным секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов государств – членов ОДКБ, доктора экономических наук Ахмета Хатаева, «операции с наркотиками приносят от 300 до 2000 % прибыли» [366], т. е. в два раза меньше, чем операции с церковными свечками!?..
При таких-то барышах способно ли духовенство думать о пресловутом журавле в небе, если уже в руках – синица? Да еще какая! Несущая золотые 4000 %!
Да и что им этот «журавль» – Царствие Небесное? Тем паче, что никто его отродясь не видел? Слепо верующих – легион, но… кто видел? Вера же в Царствие – это не твердое, осязаемое знание того что оно действительно существует, а всего лишь вера в несозерцаемое, неощущаемое, непроверяемое. Как узнать, есть ли оно вообще? Ведь никто ж оттуда еще не возвращался. Даже Иисус Христос, пред Своим уходом сказавший: ждите, Я – вернусь, так и не вернулся на протяжении земной жизни тех, кому он об этом говорил. А ведь уверял: «…не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий» (Мф. 10:23). Причем, говоря сие, как оказывается, Он и Сам не имел ни малейшего понятия, когда вернется и вернется ли вообще на землю: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36).
Как-то очень уж все неопределенно воображаемо… А тут – 4000 %!?..
Конечно, не по-христиански, ибо стяжательство – служение мамоне. Но кто про это сегодня говорит во весь голос, кроме А.Г. Невзорова, М.Ю. Эдельштейна, Р. Докинза да еще нескольких человек?
Вот и приходится церковникам на все лады изворачиваться, всячески лукавить да дурить свою паству, и смотреть вполглаза и сквозь пальцы своих собственных рук на то, что эти же руки вытворяют. Ясно ж любой церковной собаке, что если бы материальное богатство было бы благом, то Иисус, доказавший свою способность в Кане галилейской превращать воду в виноградный сок, мог бы и уличные камни с таким же успехом превратить в настоящие слитки золота, но ведь Он же этого не делал, хотя и бедствовал – сосуществовал со своими учениками без собственного пристанища, без роскошных одежд и без кулинарных изысков.
Но ведь РПЦ не просто жирующая бизнес-структура, отрицающая христианское нестяжание и, фактически, поклоняющаяся Мамоне – демоническому существу, богу земных благ и сокровищ, обитающему в подземном мире. РПЦ самым закономерным образом оказалась замешанной еще и в систематически осуществляемой преступной деятельности: деловых операциях по отмыванию денег, взяточничество за предоставление должности и престижного места работы в церковной иерархии, предоставление преступникам церковного статуса для продажи (без уплаты налогов) не только золотой церковной утвари, но и золотых ювелирных изделий, в том числе, и фальшивых…
Похоже, что словам британского публициста Т.Д. Даннинга (1799–1873) предстоит вечная жизнь: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову; при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [367].
В полном согласии с данной формулой вел себя и капитал, позиционирующий себя не иначе, как церковь – православная и христианская. Для иллюстрации утверждаемого, вспомним хотя бы лоббиста стяжателей, игумена Иосифа Волоцкого (1439–1515), и его настырные призывы посылать «еретиков и отступников» в заточение и предавать их лютым казням [368]. И людей в заточение посылали и предавали лютым казням. Вспомним и еще несколько преступлений, которые также были совершенны из корыстных побуждений, и, к тому же, еще и хорошо известные, и задокументированные: в соответствии с Соборным уложением 1649 года (гл. I, ст. 1; гл. X, ст. 228; гл. XXII ст. 24), решениями поместного собора Русской церкви 1681–1682 г., а также «Двенадцатью статьями», которые царевна Софья Алексеевна по просьбе духовенства издала в 1685 году, были зверски замучены, заживо сожжены в срубах тысячи еретиков, старообрядцев и просто инакомыслящих; при этом старообрядческие скиты, монастыри, часовни и поселения вокруг них, беспощадно разрушали и разоряли. И подобное было и до XVII века, и после века XVII.
Впрочем, уважаемый читатель, не станем перегружать себя историко-криминальными сведениями из далекого прошлого, которые хотя и довольно интересны, как факты, и существенно-значимы, как аргументы, но все же пребывают на обочине процесса наших рассуждений. И, вместе с тем, отметим целый ряд преступлений, уже совершенных и ныне совершаемых церковью, и имеющих субстанциальный характер.
1. Духовенство отвергло заповеди Закона о любви.
Вспомним: «…законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:36–40).
Заповеди, озвученные Христом, не входят в известные 10 заповедей, продиктованные Богом Моисею, но они, вне всякого сомнения, их квинтэссенция. Вместе с тем, они же отдельно прописаны и в Ветхом Завете: «…люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5); «…люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18).
И все! И не нужно устраивать колокольный трезвон, громоздить многочасовые, из пальца высосанные богослужения, объединенные в суточный круг, не нужны посты, покаяния, причащения и прочая совершенно бессмысленная дребедень. Нужно одно – любить: Господа Бога своего, себя и ближнего своего. Все остальное – суета сует.
Люби, возлюби – куда проще? Сказано – исполняй. Но, как оказалось, простое и, на первый взгляд, безусловно очевидное, так иногда случается, вдруг совершает смысловое пронунсиаменто, и выступает уже как полная противоположность изначального. Почему? Именно потому что оно задевало базовые потребности определенных людей. Вспомним еще раз Т. Гоббса: «…если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии» [235].
Именно это произошло и с понятиями люби и возлюби. С той лишь разницей, что сжигали уже не только книги, но и авторов, и даже читателей. «Возлюбить» стало означать: уничтожить того, кто в Бога верит не по-нашему, а по-своему или вообще не верит в то, во что верим мы.
Так как же надлежит понимать термины, входящие в ткань базовых заповедей? Что означает «возлюби»? И как узнать, возлюбил ли я Господа Бога и ближнего своего или еще пока не возлюбил?
Вот тут мы вполне можем процитировать и определение «апостола» Павла, который наряду с откровенно антихристианскими идеями, выдавал же иногда и весьма дельные вещи. Например, именно он сказал: «Любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10), имея при этом в виду заповеди «Не убивай», «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего…» и пр.
А как в этом отношении у высшего церковного персонала, который на протяжении всех столетий регулярно и с осознанием полного на то права, соучаствовал в убийствах, в том числе, и в массовых убийствах, благословлял на войну и призывал к войне, крал, грабил, отымал дома ближних своих? И все это – во имя любви к Богу?!..
В Первом Послании к Коринфянам мы встречаем совершенно верное утверждение: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла…» (1 Кор. 13:4). Но… долго ли терпели, шибко ли милосердствовали участники I Вселенского Собора (325 г.), впервые принявшие решение предавать человека смертной казни всего лишь… за хранение еретической литературы? Не ослушались ли они Иисуса Христа, который на вопрос Петра «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?», ответил: «…не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22).
Прощать «до седмижды семидесяти раз» – это и есть христианство, все иное – от лукавого, все остальное – не любовь.
Не противоречат ли решения I Вселенского Собора создателю антихристианской церкви – «апостолу» Павлу, чьи слова выше мы только что процитировали? И не противоречит ли решению I Вселенского Собора «Католическая энциклопедия», утверждающая: «Христианская любовь проявляется в делах милосердия и социальном служении» [369]?
Много ли христианской любви в систематическом истреблении инаковерующих, инакомыслящих и атеистов?
Я не нашел ни одного документа – допускаю, что мне не повезло, – в котором церковники взывали бы к милосердию, вставали на защиту приговоренных к смерти, и сколько угодно документов, где церковники требуют сжечь людей, четвертовать, колесовать, посадить на кол, сослать… Именно церковники, опирающиеся на свое церковное право, использующие своё влияние на светские власти во все столетия являлись инициаторами самых жутких репрессии против инакомыслящих, инаковерующих, как, впрочем, и против деятелей науки. А ведь Иисус призывал к прощению, и Сам прощал, и сердечно, т. е. с любовью относился и к богатому юноше (Мк. 10:21), и простым поселянкам – Марии и Марфе, и к их брату Лазарю (Ин. 11:3, 5, 36), принимал в свою компанию, возлежал в доме и ел с мытарями, грешниками и с теми, кто не постился (Мф. 9:9-17)…
Причем, Господь любил не за что-то. Вот, мол, если ты не будешь грешить, перестанешь быть еретиком, отречешься от тех или иных своих убеждений, то тогда мы тебя непременно полюбим. Нет. Истинная любовь, Божья любовь – бескорыстна, ей не свойственен расчет на взаимность, на некий договор «дашь на дашь».
А вспомним историю с женщиной, «взятую в прелюбодеянии» (Ин. 8:2-11), которую привели к Нему книжники и фарисеи, собравшиеся побить ее камнями, как предписывалось по Закону Моисея. Что ответил Иисус на их вопросы? Он сказал: «кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И возомнивших себя в числе праведников, как ветром сдуло. А что сказал Иисус женщине? «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».
Господь… даже… не осудил?!..
Так, в таком случае, может ли тот, кто поступает иначе, называть себя христианином? Может ли церковь, смеющая осуждать и налагать анафему, инициировать лютые казни людей и т. п., считаться церковью христианской?..
Не волк ли в овечьей шкуре такая церковь?!..
И как же правильно-то написано в Православной энциклопедии: «Важной составляющей христианского учения о любви Божией к миру является убеждение в том, что Бог любит в равной степени все разумное творение, наделенное даром свободы, вне зависимости от того, какой путь – добра или зла – оно избирает» [370]!
Как это верно, и как согласуется с тем, что говорил Господь с тем, как Он поступал! И как это противоречит тому, что вытворяли и вытворяют церковники!
Сущность любви проявляется во влечении к объекту любви – к Богу и к ближнему своему, проявляется в стремлении соединиться с ним, уподобиться ему. При этом, человек воспринимает и Бога, и ближнего своего, как нечто нетождественное себе. Есть разница. Любить означает устранять разницу. Устраняющий разницу, ощущает удовольствие, наслаждение, радость, т. е. эмоциональное переживание, которое сообщает ему, что он идет в правильном направлении, и поступки его верны. Если же нет эмоции, или же она представляет собой переживание неприятное, значит, нет и сокращения разницы между субъектом и объектом любви.
Что означает «уподобиться Богу»? В нашем случае, уподобиться Иисусу Христу. Значит, вести себя так, как Он: прощать. И не один раз, а семижды семь раз. И не делать различия между людьми. Принимать всех людей. Любовь, прежде всего, и проявляется в принятии объекта своей любви, в данном случае – Бога; в принятии Его воли, которая выражается в том, что Он утверждал: «всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». (1 Ин. 3:10). Даже если этот брат – еретик, грешник, инакомыслящий…
2. Духовенство создало церковную самовоспроизводящуюся антихристианскую иерархию – паразита, отрицающего догмат Иисуса Христа о равенстве, и находящегося в симбиотических, взаимовыгодных отношениях с государством.
При земной жизни Иисуса Христа, как мы знаем, не существовало еще церкви в том, виде, в каковом она стала известна уже через несколько десятилетий после его вознесения. Более того ни в одном Евангелии нет слов Христа о надобности создавать структурированную организацию и возводить здания для богослужебных нужд. Напротив, есть слова о никчемности возносить молитву скопом, в массе себе подобных: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. <…> Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники» (Мф. 6:5–7).
Можно ли в церкви помолиться, не перед людьми, а тем паче, закрыв за собою дверь? Нет? В таком случае, какой смысл в создании материальной дорогостоящей собственности, именуемой церковь, храм, кафедральный собор?
Полагаю, что начало всему положил все тот же «апостол» Павел. Это ж он в своем Послании к Ефесянам свою собственную выдумку материализовал в строках, утверждая, будто бы Сам Христос «поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф. 4:11). Где об этом сказано, что Христос поставил? Кому сказано? Когда сказано? От кого лжеапостол Павел об этом узнал, ведь сам же он с Иисусом Христом никогда не встречался? Во-первых, о раздаче должностей нет никаких утверждений в Евангелиях, во-вторых, никому Господь раздавать должности просто не мог, ибо его позиция в этом была прямо противоположной. Кстати, апостольский статус Павла, не входящего ни в число 12 учеников, ни в число 70, отрицаю не только я – это же делали и его современники. В частности, в Первом послании Коринфянам негодующий Павел сам же и вопрошает, озвучивая вопросы в нем сомневающихся: «Не Апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Христа?» (1 Кор. 9:1). И далее, несмотря на сомневающихся, махнув на все рукой, подводит черту: «Если для других я не Апостол, то для вас Апостол» (1 Кор. 9:2).
Ну, понятно, для всех же апостолом не будешь…
Измыслив подобные страты – апостолы, пророки, пастыри, учителя – и навязав обозначаемым свое понимание того, что одни по своему статусу не тождественны друг другу, а уж, тем более не равны любому из прихожан, Павел направил свои стопы еще дальше: он вдруг вспомнил – иудейские-то левиты кормятся от дела, которому служат. А мы чем хуже? «Кто, пася стадо, не ест молока от стада? …кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1 Кор. 9:7, 10, 11).
И если на первых порах пропагандисты нового учения особо не выделялись и не обладали административной властью, и не были отягощены какими бы то ни было привилегиями, то теперь образовалась целая каста тех, кто кормится, не работая в обычном смысле этого слова, и ест, зарабатывая себе на хлеб тем, чем ест, а под надобность стяжания была подведена идейная основа.
Заметим попутно, что не только «апостол» Павел в поте лица своего пахал на сей антихристианской ниве. Ведь и апостол Петр – тот еще гусь – был там же бок о бок. Иуда, как мы полагаем, лишь один раз предал своего Учителя, а Петр, как минимум, трижды за одну ночь. А до той ночи? А после? Ведь это ж Петр, обращаясь со своим Первым соборным посланием к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» – кандидатам в новую иерархию, видимо, так и не перестав идентифицировать себя, как иудея, насаждал средь оных идею социально-религиозного превосходства и особости: «вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий» (1 Пет. 2:9, 10). «Народ Божий» – это из книги Бытие, гл.12; «народ избранный» – книга Исход, гл. 23.



