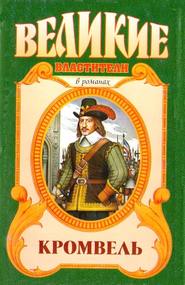
Полная версия:
Восхождение. Кромвель
Впрочем, грязные страсти кипели недолго. Все-таки слишком многих глубоко оскорбил неопределенный, уклончивый ответ короля, но они терялись в догадках, что предпринять. Вскоре на представителей нации опустилось уныние. Наконец поднялся только что жестоко обруганный Джон Элиот и сказал:
– Должно быть, очень велики наши грехи. Богу известно, с какой любовью, с каким усердием мы старались смягчить короля! Нет сомнения, неудовольствие с его стороны навлекли на нас чьи-то доносы. Говорят, что мы бросили какую-то тень на некоторых министров, однако, как бы ему ни был дорог министр, король не может…
Председатель вскочил и умоляющим голосом закричал:
– У меня повеление короля заставлять замолчать любого и каждого, кто станет дурно говорить о королевских министрах, молчите!
Джон Элиот посмотрел на председателя с удивлением и медленно сел на скамью. Председатель упал в свое кресло и истерически зарыдал. Когда он оправился и вытер слезы платком, Дадли Диггс раздраженно заметил:
– Если в парламенте нельзя говорить об этих вещах, встанем и уйдем или останемся сидеть праздными и немыми!
Ему громко возразил Натаниэл Рич:
– Нет, мы должны говорить, должны говорить теперь или никогда! Представителям нации в такую минуту неприлично молчать! Да, я согласен, молчание нас может спасти, но оно спасет только нас и погубит государя и государство! Направимся к лордам, объявим им о нашей опасности, наше порицание представим королю сообща!
Перелом наступил. Уныние внезапно сменилось негодованием. Представители нации разом вскочили, завопили разом, перебивая друг друга:
– Король добр, никогда ещё не было такого доброго короля! Это враги отечества вооружили его против нас! Пусть Господь пошлет нам непоколебимость сердца, верность шпаги и твердость руки, чтобы перерезать всех врагов, наших и нашего короля!
– Это не король, это Бекингем говорит нам, чтобы мы не вмешивались в государственные дела!
– Бекингем! Бекингем!
– Это он! Это он!
Председатель снова вскочил, но его голоса не было слышно. Беспорядок усиливался. Не нашлось никого, кто бы остановил бесполезный, беспорядочный крик. Молчали и Элиот, и Уентворт, и Кук. Именно те, кто только что их обвинял в поджигательстве, во вражде, предлагали самые немыслимые, самые жестокие меры. Председатель неприметно покинул зал заседаний и поспешил во дворец, Не успел он донести о случившемся, как смятение, в свою очередь, охватило короля и министров. Страх сковывал мысли, трусость подвигала идти на любые уступки. Лишь на другой день пробудилось благоразумие. В палату общин было направлено объяснение, что представителям нации не возбранялось обсуждать государственные дела и порицать королевских министров.
Король Карл отступал, но отступал как слабый человек, а не как сильный и мудрый политик. Его слабость тотчас уловили представители нации. В зале заседаний не ослабевало волнение. Вновь поползли зловещие слухи. Передавали, будто герцог Бекингем уже навербовал немецких наемников, известных своей кровожадностью и безрассудной жестокостью, превосходящей даже неумолимую жестокость испанских папистов, и готовится перебросить их в Англию. Именно, именно, один из депутатов не далее как вчера видел двенадцать немецких офицеров на улицах Лондона! Тотчас стало известно, будто два корабля королевского флота получили приказ доставить немецких солдат и готовятся выйти из Портсмута. Кое-кто в самом деле стискивал рукоять своей шпаги, готовясь к кровавой борьбе.
Тем временем во дворце смятение и трусость усиливались. Король Карл и герцог Бекингем совещались два дня подряд. Герцог Бекингем настаивал на новом походе под Ларошель и выражал готовность снова возглавить флотилию. Он убеждал окончательно потерявшего самообладание короля, что только победа сможет восстановить и укрепить его власть, однако о новом походе нечего было и думать, ведь закон о субсидиях так и не утвержден, а чтобы вырвать этот закон,
Следует успокоить представителей нации, необходимо швырнуть им петицию о правах, как швыряют кость голодной собаке, после славной победы будет нетрудно от нее отказаться. На седьмое июня было назначено заседание лордов. На заседание пригласили представителей нации. Явился король, в испанском наряде, с испанским клинышком бороды и по-испански подстриженными усами, и начал он с оправданий:
– Напрасно в нашем ответе предположили какую-то заднюю мысль, там её нет. Мы готовы ответить так, чтобы рассеять всякие подозрения.
Старший из лордов громко, отчетливо зачитал петицию о правах. Все глаза обратились на короля Карла. Король Карл прикрыл на мгновенье глаза, поднял бессильно раскрытые пальцы и медленно произнес:
– Быть по сему.
Представители нации ликовали. Они одержали свою первую и значительную победу. Этой победой открывалась новая, ещё никогда не бывалая страница в истории отношений верховной власти с народом. Они спешили её закрепить. Для этого было необходимо оповестить всю страну. Палата общин постановила без промедления напечатать петицию о правах вместе с заключительным словом короля «быть по сему». Пока текст сверялся и рассылался по лондонским типографиям для скорейшего распространения в королевских судах, был единодушно принят закон о субсидиях. Своим единодушием представители нации давали королю Карлу понять, что они готовы к сотрудничеству, к взаимным уступкам. Королю Карлу оставалось только держать данное слово. Казалось, он и сам склонялся к сотрудничеству. Получив закон о субсидиях, он произнес:
– Я сделал всё, что зависело от меня. Если этот парламент кончит плохо, он будет в этом сам виноват. Отныне меня не могут ни в чем упрекнуть.
Он ошибался. Петиция о правах пока что была только бумагой. Записанные в ней права человека и гражданина ещё только предстояло соблюдать и защищать. Кто станет их исполнять и кому предстоит защищать? Ясно, что соблюдать права человека и гражданина предстояло самому королю Карлу и его министрам во главе с Бекингемом, а защищать должны будут представители нации. Ни один из них не доверял герцогу Бекингему, да и сам король Карл пока что не отказался забирать в казну пошлины, в которых представители нации ему отказали. Стало быть, сам король без малейшего угрызения совести продолжал нарушать те права, которые его только что вынудили признать. Чего же после этого ждать от ненавистного Бекингема?
Было понятно, что представители нации не должны останавливаться в борьбе за права, да и остановиться они уже не могли, победа кружила их возбужденные головы. Тринадцатого июня они подготовили протест против герцога Бекингема и направили его королю, прямо не требуя, но решительно подталкивая его дать отставку своему ненавидимому всеми любимцу. Двадцать первого июня был подготовлен протест против взимания не установленных пошлин, поскольку все сборы, согласно петиции о правах, могли взиматься только в том случае, если их узаконил парламент. Двадцать шестого июня король Карл явился на совместное заседание обеих палат и, ещё не решившись вовсе обойтись без парламента, распустил и лордов и представителей нации на каникулы.
2
На этот раз король Карл предоставил палате общин на борьбу с ним сто два дня. Это были знаменательные, бурные, яркие дни. И все эти дни Оливер Кромвель, неприметный депутат от неприметного Гентингтона сидел на задней скамье и угрюмо молчал. Страсти кипели, выступали ораторы, знаменитые и никому не известные, настроение менялось, внезапно переходя от уныния к ликованию, его сердце учащенно колотилось в груди, кровь приливала к голове и стучала в висках, кулаки сжимались сами собой, рука искала рукоять шпаги, но он вынужден был молчать, он не рожден был оратором, у него не было слов, к тому же, проведя тридцать лет в деревенской глуши, он не всегда понимал, отчего волнуются представители нации, о чем так громко толкуют ораторы и по какой причине им возражает король.
Оливер снова худел, терял аппетит, плохо спал по ночам и видел страшные сны. Отвары, прописанные доктором в Гентингтоне, перестали ему помогать. В желудке появлялись боли спустя после еды три часа, и никакая диета ничего не приносила ему облегчения. Стали появляться боли в левом боку. Он точно усыхал, а тело его становилось горячим. Он хотел отдохнуть, съездить домой, успокоиться, но не мог оторваться от Лондона. Череда всё новых и новых событий парализовала его.
Объявив парламентские каникулы, король Карл поначалу делал уступки, продолжая задабривать представителей нации. Им были приняты некоторые меры против папистов, которые в последнее время проникали повсюду и проповедовали чуть не открыто. Его повелением англиканская церковь прекратила безобразные проповеди слепого повиновения королю и министрам. Он всё ещё колебался. Вновь его собственная судьба, судьба парламента, судьба петиции о правах и судьба Англии зависели от победы в войне.
Не находя более достойного адмирала, он вновь назначил командовать флотом герцога Бекингема. Бекингем выехал в Портсмут. Он нашел, что повеления короля не исполнены, что флотилия не готова к выходу в море, что ремонт кораблей тянулся вяло и проводился только для вида, что матросы не хотят воевать, что кругом саботаж и подрывная деятельность французских шпионов. Он с энтузиазмом взялся за дело, может быть, понимая, что наступают последние дни: он должен либо победить, либо умереть. Подготовка флотилии пошла побыстрей, офицеры подтягивали дисциплину в командах. Бекингем чувствовал себя всё уверенней. Двадцать третьего августа он обедал весело и с аппетитом. Наконец он допил вино, вытер влажные губы, смял и бросил салфетку, потянулся и поднялся из-за стола. Вдруг из рядов его стражи твердо выступил молодой офицер, Джон Фелтон, лейтенант королевского флота, тридцать три года, и уверенной рукой нанес самозванному адмиралу два неотразимых удара кинжалом. Бекингем успел выхватить шпагу, намеренный защищаться от нападения, но тут же, обливаясь кровью, упал, коснеющим языком прошептав:
– Да ты убил меня, экая сволочь!
Офицер стоял неподвижно. На него набросились с криками:
– Это француз! Это француз!
Кто-то припомнил, что был канун ужасной Варфоломеевской ночи, когда неистовые паписты перерезали уйму безоружных сторонников истинной веры. Офицер не сопротивлялся, не возражал. Он был англичанин, больше того, он именно придерживался истинной веры. Он спокойно отвечал на вопросы. Был ли у него личный мотив для убийства? Да, у него был личный мотив, он участвовал в первом походе под Ларошель, отличился на острове Ре, ему по праву следовал чин, он дважды обращался с прошением к герцогу Бекингему, и герцог Бекингем дважды ему отказал, причем оскорбил честь офицера, тогда как другие получали награды за деньги. Однако, продолжал арестованный, он убил не личного врага только, но врага королевства, человека низкой морали, распутника, взяточника и казнокрада. В доказательство своей правоты он указал на свою шляпу. Шляпу исследовали, вспороли подкладку, под подкладку была зашита записка, которую Фелтон написал, когда готовился к покушению. В записке стояло:
«Тот позорный трус и не заслуживает звания дворянина или солдата, кто не готов положить свою жизнь за честь своего Бога, своего государя и своего народа. Пусть никто не хвалит меня за мой поступок, но каждый пусть скорее обвиняет себя самого, поскольку был причиной тому, что сделал я, ибо если бы Бог, в наказание за наши грехи, не отнял у нас сердца, Бекингем не оставался бы не наказан так долго».
Джон Фелтон умер с достоинством и спокойно. Англия ликовала, восхищалась убийцей и признавала герцога Бекингема достойным именно такого возмездия. Король Карл был возмущен столь дерзким поведением подданных, ведь он лишился любимца, советника, своей правой руки, без герцога Бекингема он почувствовал себя сиротой. Он не пожелал рассмотреть беспристрастно, как подобает правителю, те обвинения, которые молва предъявила этой правой руке. Он предпочел мстить, однако за это убийство мстил не одному человеку, а нации. Первым делом он исподтишка отобрал у нее те права, которые только что ей даровал, объявив на заседании обеих палат «быть по сему». Его агенты проникли во все типографии, где набиралась или печаталась петиция о правах. Все наборы были рассыпаны, все отпечатанные экземпляры были изъяты и сожжены. Владельцам типографий было приказано заменить это королевское «быть по сему» первым ответом, неопределенным, уклончивым, ничего не решающим, который возмутил представителей нации, после чего петиция о правах была отпечатана всего лишь как пожелание представителей нации, без утверждения короля.
Этой подлости ему было мало. Он стремился оскорбить и унизить парламент, ещё лучше разрушить его изнутри. Он возвратил свою милость доктору Монтегю, которого ненавидел парламент, назначил на доходное место доктора Меноринга, осужденного лордами, архиепископ Уильям Лод, ярый гонитель проповедников пуританства, был поставлен на епархию в Лондон, Томас Уентворт, самый пылкий, самый красноречивый оратор, но и самый честолюбивый из депутатов получил титул барона и был принят на королевскую службу, за ним последовали Дигген, Литлтон, Ной, Уондесфорд и некоторые другие. Неутвержденные парламентом пошлины взимались ещё неукоснительней, ещё строже, чем прежде, вновь заработали трибуналы, судившие непокорных по законам военного времени.
Не только слепая жажда мести толкала короля Карла на скользкий путь подлога, насилия и вызывающей наглости, которые не могли не раздражать представителей нации, Он по-прежнему с непоколебимым упрямством рассчитывал на громкую победу под Ларошелью, уверенный в том, что победа заткнет и самые непримиримые рты. На место убитого Бекингема был назначен граф Роберт Берти Линдсей. Семнадцатого сентября 1628 года третья флотилия вышла из Портсмута и спустя одиннадцать дней была на подступах к Ларошели. Ларошель приветствовала английские паруса праздничным перезвоном колоколов. У осажденных подходило к концу продовольствие. Изможденные голодом люди понемногу начинали охоту на кошек, собак и мышей. С появлением англичан у них появилась надежда, но она с каждым днем угасала.
Граф Линдсей наткнулся на ту же плотину, которую возвел в заливе кардинал Ришелье. Несколько дней он простоял перед ней в недоумении и раздумье. Он попытался выманить более слабый французский флот, чтобы разгромить его в генеральном сражении и предъявить осаждающим ультиматум, однако французы уклонились от прямого столкновения с ним. У него оставалась единственная возможность – высадить на берег десант и разгромить французов на суше, но, подсчитав свои силы, он вынужден был отказаться от этой возможности, поскольку против двадцати тысяч французских солдат он мог выставить не более шести тысяч своих морских пехотинцев.
Собственно, графу Линдсею оставалось только не солоно хлебавши возвратиться к родным берегам. Он был опытный морской волк и попытался хотя бы спасти свою честь. Третьего октября он начал бомбардировку плотины, пытаясь пробить в ней проход для своих кораблей, зная заранее, что никакого прохода он не пробьет. Он бил по плотине, французские пушки палили по его кораблям, причем король Людовик Х111 вновь обслуживал одну из них простым канониром. В первый же день с обеих сторон было выпущено не менее пяти тысяч ядер. Итог столь интенсивной пальбы был довольно печальным: английские ядра не причиняли французской плотине никакого вреда, тогда как французские ядра наносили неподвижно стоящим английским судам немалый урон. Пальба продолжалась и четвертого октября. К вечеру сломанные мачты, простреленные борта, разрушенные надпалубные постройки со всей очевидностью показали графу Линдсею, что очень скоро он может остаться вовсе без флота. Утром пятого октября он отправил к великому кардиналу парламентера. Парламентер просил пощадить обреченную Ларошель. Великий кардинал, убедившись в полнейшем бессилии английского флота, согласился только на то, чтобы англичане уговорили осажденных сложить оружие и сдаться на милость своего законного короля. Посчитав, что честно исполнил свой тяжкий долг, граф Линдсей приказал поднять якоря и взять курс к родным берегам. Три недели спустя, прикончив всех кошек, собак и мышей, осажденная Ларошель отворила ворота. Площади, улицы, общественные места и дома горожан были завалены трупами, причем тела были до того иссушены страшным голодом, что не поддавались гниению. Оставшиеся в живых уже не способны были держать оружие и хоронить умерших братьев по несчастью и вере.
Оливера душило негодование. Коварные выходки короля, провал третьего похода английского флота, падение Ларошели и торжество папистов над приверженцами истинной веры в его страстной душе вызывали бессилие гнева. Он был призван к активному действию, однако активное действие по-прежнему оставалось для него невозможным. Его здоровье стремительно ухудшалось. Наконец его худоба вызвала беспокойство родни. Его чуть не силой гнали к врачам. Он сам сознавал необходимость лечиться. К нему пригласили известнейшего лондонского доктора Майерна, своим врачеванием заработавшего крупное состояние, что в глазах многих служило наилучшей рекомендацией. Доктор Майерн осмотрел его с должным вниманием и поставил диагноз, уже поставленный бедным лекарем из Гентингтона: крайне подвержен меланхолии, и прописал всё тот же отвар из валерьяны, зверобоя и мяты, которому надлежало привести расшатанные нервы исхудавшего пациента в должный порядок и возвратить ему крепкий сон, радость жизни и аппетит.
Оливер продолжал пить целебный отвар, но едва дождался конца каникул, установленных королем. Заседания палаты общин возобновились двадцатого января 1629 года. Наслышанные о том, до какой степени вызывающе в эти шесть месяцев вел себя король Карл, представители нации на другой день приступили к расследованию. В первую очередь их волновала судьба петиции о правах. Ими был официально допрошен владелец королевской типографии Нортон. Типографщик показал, что заседания парламента прекратились семнадцатого июня, а уже восемнадцатого он получил повеление заменить утвердительный ответ короля, Преступно подделанная прокламация была доставлена в зал заседаний, были подняты протоколы голосования, и все убедились, что король тайно, трусливо и подло пошел на подлог и отменил петицию о правах.
Это казалось невероятным. Король Карл так низко уронил свою честь, как себе не мог бы позволить и простой дворянин. Представители нации были поражены. Словно стыдясь своего короля, они сняли вопрос с обсуждения и перешли к текущим делам. Два вопроса были признаны главными. Первым был вопрос о таможенных сборах. В пользу короля приходилось платить с каждого фунта любого товара, который вывозился на внешние рынки, отчего английские товары существенно дорожали, а положение английской торговли и без того ухудшалось. Стремясь сохранить торговые прибыли и престиж государства, представители нации три раза подряд отказывались вотировать закон о пошлинах в пользу ненасытной королевской казны. На этот раз, не желая вновь и вновь повторять свои доводы, они лишь подтвердили, что такие поборы не имеют силы закона.
Второй вопрос казался религии. В ноябре прошедшего года король Карл, после гибели герцога Бекингема попавший под влияние архиепископа Лода, объявил, что считает себя выше церковных соборов, что впредь не допустит так называемых ученых изысканий по вопросам религии, поскольку в разного рода толкованиях и дискуссиях видит корень зла и семя всех смут и что все верующие обязаны безоговорочно подчиняться единой и незыблемой англиканской церкви, во главе которой короля Карла поставил сам Бог.
Напротив, всё большее число англичан становилось пуританами. Они и в палату общин направили самых испытанных, самых проверенных пуритан. Естественно, они не могли снести этой новой выходки короля. Страсти наконец закипели. Представители нации выплеснули весь свой чрезмерно накопившийся гнев. Депутаты от общин обрушились на короля, обвинив его в том, что он покровительствует папистам, они указывали, что папистам привольно живется при королевском дворе, что с ведома короля паписты наводнили Ирландию, что среди высшего англиканского духовенства всё больше становится соглашателей, которые готовы уступить папизму не только в богослужении, но и в основах вероучения, и всё это творится в то время, когда папизм побеждает в Европе, когда во Франции по вине английского короля пал последний оплот истинной веры, когда кровавые собаки Валленштейна добивают протестантов в Германии, а испанцы подбираются к протестантам Соединенных провинций, как не понять, что не сегодня так завтра очередь дойдет и до Англии.
В разгар прений на задней скамье поднялся неприметный, до сей поры угрюмо молчавший депутат из провинции, в простом домотканом камзоле, с болезненным видом, с изможденным бледным лицом, с зловещим блеском в глазах. Это был Оливер Кромвель. Он ощутил в первый раз, что может сделать реальное дело. В его родном Гентингтоне преследуют его старого учителя Томаса Бирда. Он обязан его защитить. Он заговорил нескладно, но горячо:
– Доктор Алабастер в церкви святого Павла проповедовал открытый папизм. Достопочтенный доктор Бирд хотел урезонить его, тогда епископ винчестерский вызвал его к себе и приказал не перечить доктору Алабастеру.
Для начала и этого было довольно. Оливер вернулся на место. Он был весь в поту. Выступления продолжались. Более опытные ораторы громили наглый папизм и предлагали подать новый протест королю. Протест против чрезвычайного распространения папизма в Англии, Ирландии и Шотландии был принят – подавляющим большинством голосов. Естественно, за него отдал свой голос и Оливер Кромвель. Собственно, любые протесты представителей нации не имели никакого значения. Король мог произнести «быть по сему», и в этом случае протест получал силу закона, а мог попросту промолчать, и протест оставался всего лишь сотрясением воздуха и мертвой бумагой. Стало быть, не от чего было расстраиваться, однако беда состояла именно в том, что болезненно щепетильный король Карл каждый протест представителей нации воспринимал как личное оскорбление, как возмутительное посягательство на его неограниченные права, данные Богом, чего не должен делать истинно государственный человек. Протест против чрезвычайного распространения папизма он ещё стерпел кое-как, но протест против взимания не утвержденных парламентом пошлин в пользу королевской казны возмутил его до глубины души. Поистине, пошлины – это святое. Он благополучно собирал эти неутвержденные пошлины уже пятый год, представители нации протестовали, а он продолжал собирать и мог бы так же благополучно собирать до конца своих дней, не раздражая парламент ненужным, бессмысленным, бесполезным негодование. Он же вознегодовал. Он потребовал утверждения пошлин. Он пробовал убеждать, он угрожал, а в сущности суетился без малейшего смысла. Представители нации ответили тем же: они извинились, но отказали, на этот раз просто-напросто не желая привести никакого резона. Они саботировали, они издевались, ничего иного они предпринять не могли.
Король понял: они не хотят с ним говорить. Он мог бы вернуться к петиции о правах, ведь однажды он её принял и лишь задним числом, неприлично, тайком, её отменил. Возвращение к ней остудило бы праведный гнев представителей нации, король добровольно возвратился бы на путь чести, сотрудничество короля и парламента могло бы возобновиться. Но коса уже нашла на камень. Король мог сколько угодно по своей прихоти ронять свою честь, но не мог позволить, чтобы ему на это указывали. Второго марта он послал объявить, что заседания парламента прерываются на неопределенное время. Он откровенно заявлял свое право: даю вам говорить, когда мне это нравится, и не даю вам говорить, когда мне это не нравится. Такого ущербное право всех недальновидных, упрямых людей. Уж лучше бы он совсем не давал говорить, а если уж дал говорить, ему оставалось набраться мужества выслушивать то, что ему говорят.
Огонь раздора ещё только занимался и тлел – король плеснул масла в огонь. Представители нации точно взбесились. Они повскакали со своих мест и закричали, заорали, завопили все разом, в этом гаме невозможно было ничего разобрать. Когда же первая волна бешенства поулеглась, не потерявший хладнокровия Джон Элиот предложил не покидать этого зала до тех пор, пока не будет принят протест против всей незаконной, противной интересам нации политики короля. Вторая волна бешенства потрясла зал заседаний. Со всех сторон посыпались предложения, одно другого решительней, непримиримей и злей, которые могли только усилить вражду между парламентом и королем. Заслыша возмутительные призывы, председатель Джон Финч объявил, что в полном согласии с повелением короля он не может допустить ни прений, ни тем более голосования какого-либо протеста. Ожесточенные прения продолжались. Он встал, что означало конец заседания. В порыве негодования его окружила возбужденная толпа депутатов. Холс и Валентайн силой усадили Джона Финча на место, крепко держа его за руки, Холс при этом кричал:

