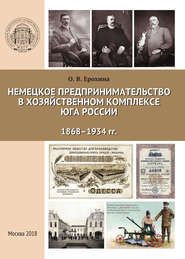 Полная версия
Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.
В феврале 1921 г. Германия предложила советскому правительству урегулировать экономические отношения между странами. В ходе переговоров было подписано предварительное соглашение о взаимном обмене торговыми представительствами.901 В связи с этим В. И. Ленин отмечал: «Для России союз с Германией открывает гигантские экономические перспективы, независимо от того, скоро ли там победит германская революция».902
6 мая 1921 г. Германия и РСФСР подписали соглашение о признании социалистического государства де-факто, обмене официальными представительствами и торговыми работниками.903 Подписание этого соглашения способствовали тому, что министерство хозяйства 18 июня 1921 г. направило Имперскому союзу германской промышленности доверительное письмо: «Имперское правительство предполагает направить экономических экспертов в Россию, которые должны познакомиться с существующими там хозяйственными условиями. Результаты наблюдений и выводы этих экспертов должны быть изложены в отчетах имперскому правительству с целью рекомендации путей увеличения торгового оборота между обеими странами».904Кроме того, в письме были указаны отрасли, представляющие интерес для германской экономики.
Это письмо вызвало незамедлительную реакцию со стороны фирм, которые изъявили желание принять участие в изучении возможностей расширения торговли с Советской Россией. Это обстоятельство свидетельствует о заинтересованности германских предпринимателей в расширении деловых контактов с РСФСР. Вместе с тем, предприниматели предлагали воздержаться от посылки представителей фирм, имевших интересы в России до революции: «Немец, имевший ранее дело в России, будет судить о положении в значительной степени с точки зрения восстановления собственного предприятия в России, тогда как представитель германской хозяйственной жизни будет обращать в первую очередь внимание на то, каким путем быстрее и целесообразнее могут быть развиты экономические отношения между Германией и Россией».905
Торговый представитель РСФСР в Германии Б. С. Стомоняков в телеграмме В. И. Ленину сообщал, что фирма Ф. Крупп выступила с предложением организовать сельскохозяйственную концессию и, просил «срочно телеграфировать принципиальное согласие, указав район и площадь под концессию».906 В. И. Ленин считал, что принять предложения Ф. Круппа особенно необходимо перед Генуэзской конференцией. «Для нас было бы бесконечно важно заключить хоть один, а еще лучше несколько договоров на концессии именно с немецкими фирмами. Поэтому, – заявлял он, – против предрассудка, который имеется в верхах ВСНХ против концессий и нефтяных, и земледельческих и других надо повести борьбу самую беспощадную».907 Такой же точки зрения придерживался Л. Б. Красин: «Если Крупп возьмет эту концессию – то окажет нам величайшую поддержку при предстоящих переговорах с Англией и со всей Европой».908
25 января 1922 г. на совещании представителей Германии и Советской России обсуждались проблемы налаживания сотрудничества двух стран. Советскую делегацию в первую очередь интересовал вопрос предоставления германского кредита (300 млн. марок) нашей стране. Однако германское правительство не могло пойти на такой риск, опасаясь отрицательной реакции со стороны европейских держав.
Г. Стиннес предлагал заключать обоюдовыгодные небольшие сделки. Представитель фирмы «Крупп» О. Видтфельд заявлял: «Я стою на позиции Стиннеса. Мы готовы к ряду отдельных сделок. Вопрос о кредите остается открытым. Он зависит от двух предварительных условий: во-первых, от доверия, во-вторых, от дееспособности. Легче заключить отдельные сделки, нежели целый комплекс».909
Придавая огромное значение налаживанию отношений с Германией, В. И. Лениным на имя И. Т. Смилга была послана телефонограмма в Берлин: «По соображениям не только экономическим, но и политическим нам абсолютно необходима концессия с немцами в Грозном, а если возможно, и в других топливных центрах. Если Вы будете саботировать, сочту это прямо за преступление. Необходимо действовать быстро, чтобы до Генуи иметь позитивные результаты».910
Через месяц на заседании Политбюро ЦК РКП (б) был рассмотрен вопрос о переговорах по поводу концессий с Германией и принято решение: «а) Констатировать, что в деле реального осуществления концессионных договоров на основе широко ведущихся в Берлине переговоров <…> ничего не предпринято; в) Признать в принципе нефтяные концессии с Дойчебанком, на криворожскую руду и с[ельско]х[озяйственные] с Круппом важными и предложить Концессионному комитету в самый кратчайший срок <…> двинуть дело в ускоренном порядке до Генуэзской конференции».911
В марте 1922 г. Л. Б. Красин писал в Политбюро: «В связи с неопределенностью судьбы Генуэзской конференции, а также с целью укрепить наше положение на самой конференции НКИД считал бы нужным после заключения соглашения со Швецией создать второй опорный пункт в Германии, ускорив переговоры, начатые т. Радеком с германским правительством и группою Стиннеса. Зацепившись за Швецию и Германию, мы сможем не опасаться новой экономической блокады».912При этом он отмечал, что Германия не только не в состоянии вкладывать большие капиталы в Россию, но и тем более давать значительные кредиты.
Несмотря на то, что у Германии с Россией было много общего, она не стремилась ускорить сближение. Политика германских властей была направлена на уменьшение размеров репараций и отсрочке срока их уплаты.913
Почему же советское правительство сделало ставку на Германию? Во-первых, с ее помощью легче было прорвать капиталистическое окружение, так как изначально она противостояла странам Антанты. Во-вторых, Германию можно было заинтересовать военно-техническим и экономическим сотрудничеством в отличие от других европейских держав. В-третьих, большинство проблем возникших перед Россией и Германией в 1920-е гг. были схожими.
Возможно, поэтому 16 апреля 1922 г. в Рапалло Г. В. Чичерин и министр иностранных дел Германии В. Ратенау от имени правительств своих стран подписали договор о возобновлении дипломатических отношений и взаимном отказе от возмещения военных убытков. Германия также отказалась от претензий, связанных с национализацией имущества ее граждан после революции.
Для советского и германского руководства он стал одним из средств укрепления своего положения на международной арене. Английский посол в Берлине лорд Д,Аверон в своих воспоминаниях писал: «Это произошло неожиданно <…> немецко-русский договор был удачным, чудо свершилось».914 Рейхсканцлер Й. Вирт, выступая в рейхстаге 29 мая 1922 г., заявил: «Антанта вынудила нас достичь прямого соглашения с Россией».915 Однако Г. Штреземан считал, что это было проявлением нормальных отношений между двумя народами, у которых есть чувство взаимовыручки, так как находясь в новой стадии своего развития они смогли прийти к взаимному соглашению.916
Однако не только Россия преследовала свои цели при сближении с Германией.917 Рейхсканцлер Й. Вирт в своем письме графу У. Брокдорф-Ранцау писал: «В чем заключается наша цель? Что мы хотим от, в и с Россией?… Мы хотим: 1) укрепление России в хозяйственной, политической и военной областях; 2) косвенное укрепление собственной военной промышленности через оказание помощи России».918 В записке, составленной в МИД Германии в июне 1922 г. говорилось: «Соглашением от 6 мая 1921 г. и Рапалльским договором заложена лишь предварительная основа для нормальных отношений с Россией».919
Германия и СССР, стремившиеся к налаживанию взаимовыгодных экономических отношений, сосредоточили внимание на разработке торгового соглашения на основании Рапалльского договора. Постановлением СТО РСФСР от 21 июля 1922 г. при НКВТ под председательством М.И. Фрумкина была создана комиссия по подготовке торгового договора с Германией в состав которой вошли представители НКИД, ВСНХ, НКЗ, НКФ и т.д.
Л.Б. Красин на первом пленарном заседании комиссии, проходившем 15 августа 1922 г. сделал акцент не только на плюсах этого договора, заявляя о возможности Германии помогать «сотней тысяч технических и инициативно-развитых людей» открывать богатства Советской России920, но и обратил внимание на трудности, которые возникнут в ходе его разработки. Чтобы быть готовыми к этому, следует «определить принципы, из которых мы исходим при согласовании наших интересов с их интересами», – считал он.921 Одновременно такая же комиссия была создана в Германии. Ею были рассмотрены вопросы о состоянии народного хозяйства Советской России и определены основные принципы торгового договора.
Л.Б. Красин в интервью газете «Вестник торговли» в августе 1922 г. выразил сожаление по поводу состояния современной Германии и Германии ближайшего будущего. Она «не в состоянии будет оказать экономическому восстановлению России той помощи, – говорил он, – которая объективно была бы возможна по состоянию производительных сил германского народа и потому обилию связей, знания, осведомленности и интереса, которые имеются в отношении России почтивовсехслояхгерманскогоделовогомира.»922 К томуже положение в Германии на денежном рынке было катастрофическое, ожидать серьезного участия германского капитала в русских концессиях в ближайшее время не приходилось.923 Именно поэтому считал работник Наркоминдела Б.Е. Штейн «Россия должна применять тактику лавирования в своей политике внешней торговли, осуществляя определенное маневрирование между различными группами иностранного капитала».924
В беседах с германскими представителями по проблемам экономического сотрудничества он упрекнул их в том, что им изменяет их хваленая предприимчивость. Им были перечислены не реализованные концессии (земельная концессия Круппа в Южной России, нефтяные концессии и др.). Германские предприниматели сделали вывод: «Общее впечатление от беседы с Красиным сводится к тому, что он весьма благосклонно относится к экономическому сотрудничеству с Германией, особенно быстрому его развертыванию, а также к тому, чтобы со своей стороны, пойдя на дальнейшие уступки, возобновить переговоры, которые были прерваны или зашли в тупик».925
В сентябре 1922 г. граф У. Брокдорф-Ранцау был назначен германским послом в Москву. В своем интервью корреспонденту газеты «Известия» он также сожалел, что Германия не могла активно помочь России: «Она сейчас обескровлена и не может дать больших материальных ресурсов для восстановления русской промышленности».926 Им была выражена надежда, что в России сохранилась былая слава германской энергии и предприимчивости, так как «это даст возможность усилить техническую помощь России, наладить хозяйственную связь обоих государств, организовать торговые обороты».927
Несмотря на стремление двух государств наладить взаимовыгодные отношения, тем не менее, существовали обстоятельства, тормозившие этот процесс. В докладе германского посольства в Москве «Цели германской деятельности в русской экономике» для министерства иностранных дел в Германии обращалось внимание на существование Комиссариата внешней торговли как сдерживающий фактор начала германской деятельности в России.928 Немецкая сторона надеялась решить эту проблему как можно быстрее. Для этого предполагалось заинтересовать советские хозяйственные организации предоставлением возможности торговать с Германией напрямую и добиваться на переговорах с советским правительством усовершенствования монополии внешней торговли.929
5 ноября 1922 г. германский посол У. Брокдорф-Ранцау, вручая верительную грамоту председателю ВЦИК РСФРС М.И. Калинину заявил, что приложит все силы, чтобы наладить взаимоотношения между странами. Он отмечал: «Было время, когда между немецким русским народами существовало взаимное понимание. К ущербу обоих народов, их пути разошлись. Но в тяжелом испытании, ниспосланном им судьбой, они снова нашли друг друга для совместной работы».930
После подписания рапалльского соглашения экономические связи двух стран активизировались, особенно в области концессионного дела. Торгпред РСФСР в Берлине Б.С. Стомоняков сообщал 8 ноября 1922 г.: «… заключение договора с О. Вольфом и ратификация его в Москве произвели огромное впечатление за границей и создали благоприятную атмосферу для новых переговоров, которую нужно спешить использовать. <…> Оживление громадное. Насилу справляемся со всеми поступающими предложениями. Ряд иностранных миссий – непосредственно и окольными путями просят сообщить им текст договора с Отто Вольфом и просят разных справок об условиях предоставления нами промышленных и торговых концессий».931
В это время наиболее крупные предложения на создание зерновых концессий поступили со стороны представителей Германии и Италии. Профессор Н.П. Огановский отмечал: «Эти страны рассчитывают с одной стороны путем разработки миллионов десятин пустующих земель в России создать себе здесь продовольственную базу, с другой – использовать с выгодой свой избыток сельскохозяйственных машин».932
Активным сторонником экономического сотрудничества между Германией и Россией был посол Германии в Москве граф Ульрих Брокдорф-Ранцау, который, например, 6 декабря 1922 г. заявлял: «В Россию никто не опоздает» – является глупостью, как все громкие выражения. Если мы, наконец, не решимся интенсивно участвовать в восстановлении России, мы упустим случай, который не повторится вновь».933
Немецкие деловые круги достаточно быстро пришли к выводу, что для германской экономики расширение экономических связей с Советской Россией даст более ощутимые результаты. О том, что экономическому сотрудничеству с Россией Германия придавала особое значение, свидетельствует записка советника посольства Германии в Москве от 14 февраля 1923 г. Г. Хильгера послу графу У. Брокдорфу-Ранцау: «Для германской индустрии является жизненно важным создать такое надежное положение в России, благодаря которому мог бы осуществляться непрерывный сбыт товаров. При проведении всех наших экономических мероприятий в отношении России следует, прежде всего, придерживаться основного принципа, что наше сотрудничество в восстановлении русского хозяйства, и в особенности русской промышленности, не есть самоцель, а только средство для выхода из кризиса сбыта в германской промышленности».934
Торговый представитель РСФСР в Берлине Б.С. Стомоняков в письме И.В. Сталину от 9 февраля 1923 г. писал, что все более заметным становится приток германского капитала в российскую экономику. Эта тенденция наметилась после подписания договоров Уркарта и Отто Вольфа. Если раньше немцы интересовались концессиями и смешанными обществами торгового характера, то теперь они хотели вкладывать свои капиталы в русское производство. При этом отмечал: «Заключению договоров с германскими фирмами мешает катастрофическое падение германской марки, которое затрудняет чрезвычайно всякие расчеты искателей концессий».935
Однако бывший статс-секретарь германского правительства доктор Август Мюллер причинами, мешающими развитию экономического сотрудничества между обеими странами, считал «пропаганду мировой революции», «полное обесценение русской валюты, тяжелое состояние транспорта, отсутствие жизненных припасов, недостаток в сырье, отсутствие правовых гарантий и своеобразную организацию монополии внешней торговли».936 Хотя часть немецких экспертов утверждала, что «Германия больше заинтересована в сбыте своих товаров в Россию, чем в концессиях», ссылаясь на неустойчивость политического и экономического развития России.937
По мнению Г. Хильгера германскому правительству необходимо было заключить торговый договор с СССР, предварительно добившись уступок. Он считал, что советское правительство согласится на них пойти из-за затруднений, возникших в сношениях с другими странами (Англия, Швеция, Франция, Польша и т.д.).938
С советской стороны Л.Б. Красин говорил о необходимости идти на соглашение с западными странами для получения кредитов: «В области внешней политики нам нужен своего рода «нэп» именно в том смысле, что необходимо изучение заботливое, пристальное тех возможностей, которые фактически нам предоставляются уже в настоящее время за границей».939
Наркомат по иностранным делам стремился урегулировать возникавшие спорные вопросы при заключении концессионных договоров. Г.В. Чичерин считал, что вмешательство экспертов и разнообразных ведомств в концессионные дела только портили работу его ведомства. Затягивание переговоров и нежелание идти на уступки способствовали расстройству многих сделок.940
Советская власть, заинтересованная не только в иностранных капиталах, но и в современной технике и квалифицированных специалистах, прилагала немало усилий, чтобы привлечь к сотрудничеству Германию. В частности, Главный концессионный комитет 31 января 1924 г. по докладу о деятельности Берлинской концессионной комиссии признал «необходимым в дальнейшем продолжать активную политику в области привлечения немецкого капитала в СССР на концессионных началах, несмотря на ослабление хозяйственной мощи Германии, и обязать К[онцессионную] К[омиссию] ВСНХ в течение ближайших 2 месяцев довести до конца не менее 3-4 германских концессионных предложений».941
3 мая 1924 г. произошел кризис во взаимоотношениях с Германией. В этот день берлинской полицией был совершен налет на советское торгпредство, который Л.Б. Красин расценил как посягательство на внешнеторговую монополию СССР. «Налет на берлинское торгпредство, – писал он, – из чисто полицейского инцидента вырос в громадной важности принципиальный конфликт между правительствами обеих стран. <…> Ни одного факта хотя бы отдаленно указывающего на прикосновенность к внутренним делам служащих нашего торгпредства, не приведено ни в полицейских отчетах, ни в статьях даже враждебно настроенных к нам германских газет». При этом отмечал: «германское правительство лишь с большой неохотой давало визы именно торговым сотрудникам нашей Миссии. <…> Здесь сказалось, очевидно, общее враждебное отношение германского правительства и известной части деловых кругов Германии к нашей системе торговли. <…> Удар по торгпредству есть поэтому удар по монополии внешней торговли. <…> Мы вынуждены прибегнуть к максимальному ограничению наших экономических сношений с Германией сведя их исключительно к выполнению действующих торговых и концессионных договоров и сделок» .942
Член Берлинской концессионной комиссии Ю. Гольдштейн 7 мая послал сообщение о состоянии концессионных переговоров с немцами полномочному представителю СССР в Германии Н.Н. Крестинскому. Им было отмечено уменьшение количества предложений по организации торговых и увеличение численности предложений на производственные концессии. Всего за период с 1922 г. по 1924 г. было заключено 12 договоров с германскими представителями. Наиболее крупными из них были концессии: лесная «Молога», сельскохозяйственные – Круппа и фон Рейнбабена, Руссгерторг и Общество по экспорту яиц (Зейферт).943 Одновременно с этим Ю. Гольдштейн обращал внимание на ухудшение концессионной работы в Германии. Причинами этому послужили: 1) ухудшение хозяйственного и финансового положения Германии; 2) желание германских фирм заключать торговые концессии вместо производственных; 3) крупные промышленные концерны Германии не шли на серьезное инвестирование капиталов в Россию; 4) монополия внешней торговли Советской России; 5) отсутствие кредитного доверия к Германии на мировом денежном рынке; 6) разрыв концессионного договора с Вольфом944 и безрезультатность многих переговоров.
На XIII съезде РКП (б) Л.Б. Красиным был поднят вопрос об инциденте, произошедшем в российском торгпредстве в Германии945. Он считал, что советское правительство обязано потребовать от Германии: извинения за оскорбление, нанесенное СССР; наказания виновных, возмещения ущерба; подтверждения неприкосновенности нашего торгпредства.946 «В ожидании удовлетворения наших требований, – говорил он, – мы должны сократить и привести к минимуму наши экономические торговые сношения с Германией».947 Его выступление было настолько резким, что могло спровоцировать разрыв советско-германских отношений. В связи с этим М.М. Литвинов пригласил немецкого посла в Москве У. Брокдорфа-Ранцау для объяснений.948
В ноябре 1924 г. в Москве начались переговоры, на которых рассматривались вопросы о правовом положении торгпредства, транзите, правах граждан, представительствах фирм и юридических лиц.949 Советскую делегацию возглавил член коллегии Наркомвнешторга Я. Ганецкий, а германскую – действительный тайный советник П. фон Кернер.
Советская делегация делала упор на таких проблемах как: торговое представительство, свободный от таможенных пошлин ввоз зерна в Германию, предоставление кредитов и подготовка советских специалистов в Германии. Германская делегация предлагала обсудить темы транзита, аквизиционного права, контингентов, концессий и т.д.950 Основные цели германской делегации были сформулированы еще 14 октября 1924 г. на совещании в министерстве иностранных дел представителей правительственных, торговых, промышленных и банковских кругов: вопрос о займах, размещенных в Германии до первой мировой войны, открытие в Москве германского торгпредства для защиты прав германских коммерсантов, вопрос о монополии внешней торговли.951 П. фон Кернер считал, что Советский Союз заинтересован не только в заключение экономического соглашения, но преследует и политические цели.952
В ходе переговоров обнаружились разногласия по вопросам: таможенных пошлин, кредиту, аквизиционному праву, транзиту, монополии внешней торговли. Делегации согласились обсуждать проблемы по подготовке технических специалистов и концессиях. 16 декабря стороны подписали протокол, зафиксировавший пункты, которые не были решены в ходе переговоров. Их рассмотрение было перенесено на январь 1925 года.953
К концу 1924 г. отношения между странами обострились. В записке народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина «О претензиях Германии к ее бывшим фирмам в Закавказье» в Политбюро ЦК РКП (б) сообщалось: «За последний период германское правительство стало по отношению к нам чрезвычайно активным, неприятным и агрессивным. Не только множатся протесты по поводу каких-либо коминтерновских выступлений <…>, но и по другим вопросам. Германские выступления стали весьма частыми и резкими по тону».954 Им отмечалось, что германское посольство при любом удобном случае пыталось ссылаться на Рапалльский договор, что наводило на мысль о проведении германским правительством подготовительной работы к смене внешнеполитических ориентиров. Г.В. Чичерин полагал, что в условиях создавшегося положения советскому правительству следует ожидать новые неприятности.
С марта по октябрь 1925 г. в тяжелейших условиях продолжались переговоры между Германией и СССР по вопросам: таможенных пошлин, кредиту, аквизиционному праву, транзиту, монополии внешней торговли Многочисленные взаимные претензии и не желание уступать друг другу в вопросах только затягивали их. Вместе с тем удалось одобрить целый комплекс хозяйственных и правовых соглашений, ставших основой торгового договора.
12 октября 1925 г. торговый договор был подписан с советской стороны заместителем наркома иностранных дел М.М. Литвиновым, членом наркомата внешней торговли Я.С. Ганецким, а с германской – послом Германии в Советском Союзе графом У. Брокдорф-Ранцау и действительным тайным советником П. фон Кернером. Он был заключен сроком на два года.
В ходе переговоров стороны обсудили только вопросы о подготовке технических специалистов и концессиях. 17 декабря 1925 г. был подписан совместный протокол, который стал прологом к заключению полномасштабного экономического соглашения.
В связи с этим 18 февраля 1926 г. в газете «Leipziger neuesten Nachrichten und Handelszeitung» была опубликована заметка о взаимоотношениях России и Германии. В ней говорилось: «Одним из путей освобождения германской экономики из ее трудного сегодняшнего положения, как мне кажется, является развитие и углубление экономических отношений между Германией и СССР. Экономика Советского Союза в своем развитии достигла такого момента, когда она естественно, при использовании долгосрочных кредитов, может завершить восстановление старых заводов и фабрик, а также приступить к строительству новых. Для германской промышленности открываются огромные возможности».955
Тем не менее, именно с 1926 г. отношения между Москвой и Берлином стали ухудшаться. Корреспондент газеты «Ганноверский курьер» от 17 февраля 1927 г. писал, что «…до настоящего времени в России нет необходимых предпосылок для интенсивной деятельности иностранного капитала. Прежде всего, нет прочной правовой основы, так что иностранный капитал неохотно идет в Россию и всегда готов удрать оттуда».956
О падении интереса к концессионным предприятиям в СССР со стороны германских предпринимателей свидетельствует таблица 10. К тому же данные таблицы наглядно подтверждают, что наибольшее количество поступивших (793) и заключенных (46) договоров на концессии приходится именно на Германию. Затем следуют Англия соответственно 227 и 23, США – 209 и 20 и Франция – 176 и 6.
Л.Б. Красин рассматривая политическое и экономическое положение Германии, указывал на ее несостоятельность «оказать экономическому восстановлению России той помощи, которая объективно была бы возможна по состоянию производительных сил германского народа и по тому обилию связей, знания, осведомленности и интереса, которые имеются в отношении России почти во всех слоях германского делового мира».957 Вместе с тем Г. фон Дирксен считал: «Мы старались восстанавливать связи нашего русского друга, которые были утрачены с началом революции и военными интервенциями. Нами руководствовало соображение, что Советский Союз должен был иметь больший вес как равноправный партнер других великих держав, чем союзник Германии и тогда всемирное недоверие против мнимого немецко-русского договора исчезло бы».958



