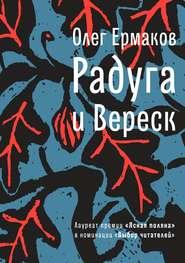скачать книгу бесплатно
– Это лекарь, – сказала пани Диана.
И действительно, через некоторое время в комнату вошли сын лесничего, сам лесничий и черно-курчавый человек в круглых очках на внушительном носу.
– Пан Гедройц! Как мы вас ждали! – заговорила пани Диана, направляясь к нему и всплескивая руками.
Пан Гедройц, известный в Новогрудке лекарь, уже снял верхнюю одежду. Очки его запотели, лицо раскраснелось от быстрой езды. В руке он держал сундучок. Ему тут же подали стул и второй для сундучка. Но он лишь поставил на стул свою ношу, а садиться не стал. Вржосек вперился в него сквозь волну огненной боли. Пан Гедройц достал платок, снял очки и начал протирать стекла. У него были бледные тонкие руки с длинными пальцами.
– Сстрелы… – простонал Вржосек.
И лекарь слепо уставился на него.
– Пану Вржосеку бредится, – негромко объяснил лесничий и прокашлялся. – Мы были не в новом набеге на татар или русинов, а охотились.
Пан Гедройц нацепил очки и кивнул.
– Я понимаю.
Он склонился над Вржосеком и решительно потянул за край покрывала, делаясь похожим на какую-то птицу… довольно зловещего вида. Пани Диана и служанка отвернулись. Лесничий и его сынок смотрели. Лекарь обнажил торс Вржосека. Вокруг ребер запеклась черная кровь. В одном месте из порванной кожи торчало костяным наконечником сломанное ребро. В других местах кожа бугрилась и готова была вот-вот прорваться. Пан Гедройц бесстрастно рассматривал раны, потом потребовал теплой воды, водки, раскрыл свой сундучок. Лесничий наблюдал за ним. Теплая вода понадобилась, чтобы обмыть торс Николая, и водка тоже. Лесничий думал, что водкой лекарь будет поить Вржосека. Нет. Вместо водки пан Гедройц наложил на нос Вржосека чем-то смоченную губку. Каким-то разогретым предварительно на огне свечей раствором. Лесничий полюбопытствовал, что это. Пан Гедройц не ответил, лишь презрительно качнул головой. Объяснил его подручный, светловолосый круглолицый малый:
– Смесь опиума, сока ежевики, белены, молочая, мандрагоры, плюща и семян латука, ваша светлость.
– Сейчас твоя светлость уснет, – тут же объяснил догадливый лесничий Вржосеку, – и пан Гедройц удалит эти стрелы.
Лекарь помалкивал, поджимал губы, хмурил брови. Капли жгучего раствора стекали по щекам Николая Вржосека.
– Дышите, дышите глубже, – проговорил Гедройц.
Николай Вржосек хрипло, рвано дышал. Глаза его туманились, но не закрывались.
– Bonum![5 - Хорошо! (лат.)] – решительно сказал Гедройц и обернулся к своему слуге. – Надо пожечь.
Он велел слуге надеть повязку на нос и рот и себе таковую нацепил. Слуга налил раствор в железную плошку с рукояткой, обмотанной тканью, а лесничий сам поднес толстую свечу и так держал ее над Николаем Вржосеком, отвернувшись и стараясь вовсе не дышать, пока ему не завязала на лице свой платок пани Диана. Раствор зашипел, по его поверхности пошли пузырьки. Гедройц приставил к лицу Николая что-то вроде кожаной маски, и пары раствора устремились по назначению.
– Bonum, bonum, – все тише и тише, ласковее говорил Гедройц.
И черный огромный бык медленно выходил из загона, хлеща себя по бокам сильным хвостом, но все реже и реже… Эти удары совпадали с ударами в проткнутой стрелами груди. По-видимому, на быка действовал успокоительный голос:
– Bonum, bonum…
Варфоломей, сынок лесничего, снова собирался читать «Песнь о зубре». Любопытно, что эту песнь сочинил тоже сын лесничего… А Николай Вржосек стал одним из ее героев в это солнечное октябрьское утро, озарившее поля и дубравы в серебре.
Ах, как сладок был этот свежий осенний винный воздух, как ярки краски, Iesu![6 - Иисус (лат.).] Словно некий щедрый изограф окунал кисть, перо и выводил линии…
Или это уже было?
Утро, дубравы с тенями, лай собак, топот и мысли о том, что все лишь продолжение его заветной книги… за которой он много лет назад и отправился в крепость на востоке.
Тогда воздух был еще чище, а краски ярче.
8. Замок
Наконец Николай Вржосек увидел город, о котором много слышал. Его называли яблоком раздора между панами и московитами. В замке больше двадцати лет нес службу друг его отца Григорий Плескачевский. Устав отговаривать сына, пан Седзимир Вржосек, уже больной, с одышкой, написал письмо своему другу, которое и вез его сероглазый и черноволосый Николаус.
Город открылся внезапно, дорога вышла из соснового духовитого леса, поднялась на холм, и слева в зеленеющих сквозь прошлогоднее былье лугах показалась серая течь реки, а впереди, выше по течению забелели стены и башни.
– Clavis Moscuae![7 - Ключ Москвы (лат.).] – воскликнул, указывая булавой, черноглазый пан Мустафович в синем кафтане, подпоясанном желтым кушаком, в шапочке, отороченной собольим мехом, на котором сейчас оседали капельки влаги. Этот татарин, получивший за верную службу королю пожалование в христианскую шляхту, и вел отряд жолнеров[8 - Жолнер – от zolnierz (польск.) – солдат.] в далекий восточный город.
– Или Klucz Litwy[9 - Ключ Литвы (польск.).], – откликнулся смоленский дворянин Бунаков, останавливая свою пегую лошадь подле Мустафовича.
Мустафович взглянул на безусое лицо Бунакова, задержал взгляд на его крупном носе, на который как будто насадили желтоватую репку, хотел что-то ответить, но тут взграяли вороны, снимаясь стаей с сухого великого дерева на обочине грязной мокрой дороги. Навстречу обозу скакали с десяток всадников, на древках копий развевались флажки. Это был сторожевой разъезд. Моложавый офицер с короткой бородкой приветствовал Мустафовича.
– Vivat rex![10 - Да здравствует король! (лат.)]
Произошла заминка. Мустафович оглянулся на сопровождающих и снова воззрился на старого вояку.
– Как… вы еще не оповещены о скорбном дне Речи Посполитой?
– О чем вы говорите, ваша светлость? – громко спросил офицер.
– Krоl umarl![11 - Король умер! (польск.)] – не выдержал коренастый рослый Бунаков.
– Dziewica Maryja![12 - Дева Мария! (польск.)] – откликнулся пораженный вояка и, сорвав с головы шапку, осенил себя крестным знамением.
То же самое сделали и его всадники, а за ними и те, кто прибыл с этой вестью и находился поблизости. С минуту все молчали, только слышен был грай летящей уже над серой свинцовой рекой вороньей стаи да фыркали лошади и скрипели не останавливавшиеся подводы.
– Но как же так вышло, сударь капитан? – спрашивал Мустафович. – Вас не известили до сих пор?
Капитан с красноватым морщинистым лицом смахнул капельки влаги с жесткой щетки усов. Нет, он был далеко не молод, а почти стар, но держался молодцевато.
– Мы живем у черта на рогах. Даже если рухнет Рим, здесь об этом узнают век спустя!
Он начал расспрашивать Мустафовича о смерти короля Сигизмунда Третьего Вазы. Божьей милостью король польский, Великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жмудский, ливонский, а также наследный король шведов, готов и венедов Сигизмунд Третий Ваза скончался в апреле, было ему шестьдесят пять лет. У короля был старший сын Владислав, достойный претендент на престол, но покуда трон в Вавеле, не восстановленном полностью после пожара тысяча пятьсот девяносто пятого года и заброшенном королем, но остающемся замком для коронации, был свободным, избрание и утверждение короля по заведенному порядку еще не состоялось. Конституция запрещала простую передачу власти по наследству. Короля должны были избрать, и стать избранником мог любой шляхтич. Наступило междуцарствие.
Отряд и решено было срочно направить в Смоленск для укрепления гарнизона в это тревожное время. В нем было семьдесят кавалеристов: двадцать рейтар в черных доспехах, с пистолями и длинными мечами, на сильных тяжелых лошадях и пятьдесят товарищей панцирной хоругви с волчьими хвостами на плече, с луками, саблями и пистолями, на быстроногих лошадях, сто двадцать два польских пехотинца в голубых длиннополых – полы все были перепачканы грязью – жупанах, с красными галунами поперек груди, в шапках-мегерках, с мушкетами и кожаными сумочками для пуль и зарядов на ремнях через плечо; восемьдесят шесть немецких ландскнехтов в шляпах с перьями, в камзолах, с мушкетами; а также двадцать семь пушкарей и много пахоликов.
Разъезд двинулся дальше мимо подвод. Проезжая мимо Николая Вржосека, старый капитан задержал взгляд на его лице. Вржосек выпрямился, поправил волчий хвост на плече, капитан приостановил было лошадь, но тут же тронул ее, за ним следовали его всадники. А отряд достиг уже сухого серого и как будто каменного древа, мокрого после ночного дождя.
Весна выдалась дождливой и хладной. Хотя позади было теплее. Сады над Вислой уже цвели, и крестьяне вовсю работали в полях. А здесь леса только покрылись прозрачной и какой-то хрупкой зеленью. В полях вязли лошади, только стаи птиц – скворцов, аистов, журавлей – и выдерживала перезимовавшая пашня. Где-то обоз пересек незримую границу, это произошло незаметно, Вржосек не мог вспомнить, где именно. Может, когда пересекли Березину или эту знаменитую реку, греческий Борисфен, Dnieper[13 - Днепр (лат.).], в которой по глупой случайности, оступившись, утонул один веселый пахолик[14 - Вооруженный слуга.], любивший подразнить своего товарища, их перепалки всех забавляли, пока господин, тучный пан Брацлавский с усами до плеч, пучеглазый и щекастый, не сверкал на них очами и не покрикивал, но голос у него, как это зачастую бывает у толстяков, отличался слабостью, и это всех смешило еще больше… Течение сразу подхватило его. И никто не успел ничего предпринять. Люди остолбенели, услыхав клокочущий, захлебывающийся вскрик – и все, только круги пошли. Его товарищ не хотел лезть в воду, но пан Брацлавский уже без шуток замахнулся на него сабелькой. И тот слез в исподнем в холодную воду… да ничем уже пособить не мог. Нырял, выныривал, безумно озирался на Брацлавского, отплевываясь и откидывая с лица налипающие пряди длинных волос, и снова нырял. Веселый пахолик не умел плавать. И все помрачнели, сочтя событие дурным знаком для обоза. Брат-бернардинец Мартин из монастыря в Прасныше, тоже направляющийся на службу в крепость на востоке, принялся читать «Отче наш»: «Pater noster, qui es in coelis! Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua…»[15 - Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя… (лат.)] Холодный ветер будто слизывал слова латинской молитвы с бледных узких губ брата в шерстяном черном плаще с капюшоном, подпоясанном веревкой, и тут же развеивал их бесследно над широкой течью весеннего Borisphen[16 - Борисфена (лат.).]. Эта река с криками диких уток, текущая в глиняных берегах, покрытых кривыми березками и ивами, с ржавыми потеками родников в обрывах, казалась совершенно чужда высокому строю латыни.
Эта чуждость проглядывала и в лицах паромщиков, крестьян, выходивших из жалких изб, крытых соломой, в лицах куда-то бредущих длиннобородых странников с котомками, сучковатыми посохами, в лаптях, заляпанных грязью. Николай Вржосек до сей поры не покидал пределов коренной Польши, учась в ближнем граде, в Казимеже Дольнем, городе в низовьях Вислы, среди Пулавских холмов, с двумя королевским замками. На самом деле никакого короля в этих замках не было, так они назывались потому, что были построены Казимиром Великим. Да… этот король оставил после себя каменную Польшу, он много строил. И был похож, как говорили, на другого кровожадного владыку – как раз правившего на востоке, на русского Иоанна Лютого. Погиб любвеобильный и беспощадный король на охоте, от клыков всего лишь вепря, кто бы мог подумать. В детстве Николай с друзьями наслушались страшных историй о Казимире, бродящем по замку и его окрестностям, – в окрестностях тень короля снова охотилась на вепря.
Кому-то, тем же евреям, понастроившим в Казимеже своих синагог, и торгашам всех мастей этот ладный городок с огромными складами, полными соли, смолы, древесины, а главное – зерна, которое отправлялось по всем городам Вислы до моря, казался отличным местечком: торгуй и богатей! Седзимир Вржосек, отошедший от ратных дел из-за ран и гнетущих лет, с головой погрузился в торговые операции, невзирая на запреты аж двух Конституций[17 - Конституции 1505 и 1550 годов запрещали шляхте под угрозой потери герба заниматься торговлей.]. И он хотел, чтобы сын – ну не торговлей занимался, а вел жизнь рачительного сельского шляхтича в своем имении. А уж отец постарается добиться для него положения – старыми дружбами и злотыми. Но Николаус мечтал о другом и уже договаривался с подозрительным вербовщиком о походе в Крым, где тамошние татары выступили против Порты. Шахин-Гирей, брат хана Махмеда Третьего, надеялся на помощь запорожских казаков и радных панов и присылал своих людей. Восток манил юного Вржосека. И тогда Седзимир решил, что самым разумным будет отправить единственного сына на службу тоже на восток, к своему другу. Пусть там перебродит это резвое вино юности. По крайней мере, это не авантюра Шахин-Гирея, а с русским царем заключен мир. Правда, как раз через год срок перемирия истекал… Что ж, вот и опасность… Да и вряд ли русский царь не захочет его продления. Речь Посполитая грозна и мощна как никогда. Ее гусары с шестиметровыми пиками и крыльями за спиной – олицетворение силы Короны, равных им нет в Европе. Отменны пушкари, и у них поистине дьявольские орудия: не устоять ни стенам, ни людям. Но главное – гусары. При Клушине семь тысяч гусар заставили бежать тридцать пять тысяч московских ратников! Земли Речи Посполитой простираются от моря западного и почти до моря южного, лишь Крымское ханство преградой. Корона торгует со всем миром. Дух свободы здесь торжествует: «Равенством поляки превзошли все иные королевства: нет в Польше никаких князей, ни графов, ни княжат. Весь народ и вся масса польского рыцарства включается в это слово “шляхта”»[18 - Станислав Ожеховский (1513–1566) – польский проповедник, публицист.]. По всей стране двадцать типографий печатали книги без устали. Тогда как в Московском царстве, по слухам, одна или две.
Это было первое большое путешествие молодого шляхтича. И он с великим любопытством смотрел вокруг. Странники с развевающимися на холодном ветру бородами, поля, холмы, уходящие за горизонт, будто библейские киты в море… – да, вот именно какие-то воспоминания о Книге и оживали при взгляде на все это. Определенно возникало ощущение древности, из каменной страны обоз входил в землю деревянную, как будто из настоящего они переходили в прошлое. Нет, тут даже не страницы из Библии мерещились, а скорее какие-то позабытые детские сказки, предания. Все казалось диковинным, диким. И реплика Мустафовича о том, что вот они и влезают в медвежью берлогу, показалась очень удачной. Бунаков рассмеялся. У него был странный смех, начинавшийся громово и затем переключавшийся в высокий заливистый регистр, как у мальчишки. Силы он был примечательной: когда одна подвода застряла в колдобине, просто нагнулся со своей коренастой бело-рыжей лошади, подхватил край телеги и выдернул колесо. Это был смоленский дворянин, оставшийся на службе у Короны после падения города в одиннадцатом году, ну, точнее, не покидать город предпочел его батюшка, бывавший в Речи Посполитой и знавший о вольностях того времени, когда его прадеды жили в городе под литвой: сто лет Smolenscium принадлежал Великому Княжеству Литовскому. Потом на сто лет отошел к Руси. И сейчас снова оказался в сени Короны.
И вот Smolenscium белел стенами впереди.
«Здесь мне предстоит служить Короне», – думал Вржосек, всматриваясь в приближающиеся стены и башни.
О, этот замок был внушительнее королевских замков Казимежа Дольны.
Погонщики закричали веселее, подводы заскрипели громче. Но тут снова начался дождь, как бы напоминая о том, что они везут весть траурную. Всадники кутались в плащи, лошади прядали ушами. Колеса наматывали липкую грязь, шумели в лужах. Жибентяй, пахолик Вржосека, угрюмого вида жилистый, смуглый, костистый литвин с бело-желтоватыми волосами до плеч и такого же цвета вислыми усами, ругаясь, укрылся накидкой с головой и напомнил господину, что и ему следует сделать то же. Он не разделял восторга господина от этого путешествия и ворчал все время, мрачно сплевывая около жалких придорожных лачуг или развалин – как вот и таких, мимо которых обоз сейчас ехал. Все косились на выгоревшую деревню с обугленными деревьями, бревнами, каким-то тряпьем, битыми горшками и теперь лучше понимали значение того высокого мертвого дерева, с которого снялась воронья стая.
Необитаемые деревни, даже и не выгоревшие, как эта, часто попадались им на дороге. Стояли они так с той смутной поры, что охватила эту землю более двадцати лет назад, когда все пришло в движение, забурлило, как дикая брага, – а из нее, будто по мановению хитрого волшебника, являлись добры молодцы – паны не паны, но паны им помогали, мечтая осенить Короной эти лесные просторы и небеса. И тогда бы невиданное королевство объявилось в мире, столь же славное и могучее, как и Священная Римская империя. Ради этого можно было и поверить чудесно спасшимся русским царевичам и даже выдать за них ясновельможную панну. О ее свадьбе в Кремле ходили легенды: о золоте и серебре, о парче и соболях, о драгоценных винах, лившихся рекой, и отменных яствах, – неделю спустя настало великое же похмелье, русское похмелье с битьем посуды, пожаром, резней.
Замок становился четче, виднее, потом дорога взяла правее, город скрылся за лесом. Всем не терпелось добраться до крепкой крыши над головой и очага, надоело спать в лесу у костров, в палатках. Вржосек простыл и теперь то и дело утирался носовым платком, которым его не забыла снабдить добрая и печальная матушка; его слегка лихорадило под кольчугой, ртутно блестевшей от дождя, как чешуя рыбы. Сейчас хорошо было бы выпить чарку просяной водки или медовухи, но запас водки как-то быстро кончился, в первые два-три ночлега. И ведь Жибентяй укорял его и жался, не хотел давать очередную бутылку. Но пан Любомирский да пан Пржыемский пылали дружеским пожаром, разве мог ясновельможный пан Вржосек из Казимежа Дольны дать ему угаснуть?.. Это были его новые друзья, тоже товарищи панцирной хоругви, толстоносый и с заметным подбородком русый Любомирский, четырьмя годами старше Николая, и чернявый Пржыемский с перебитым носом и бешеными синими глазами, почти ровесник Любомирского, но по его виду так не скажешь. Этот Юрий Пржыемский с четырнадцати лет был в седле и уже успел многое повидать и поучаствовать в осаде – а именно крепости Меве в Королевской Пруссии. Крепость была захвачена шведами. И король шведский Густав Адольф поспешил на выручку осажденным и отогнал панов. «Это был огненный вал, – говорил Пржыемский, играя желваками. – Мы стояли на высотах над Вислой, а клятые протестанты на дамбах, и все-таки они нас сбили, сшибли дьявольской пальбой, и мы ушли к Диршау, оставив позиции, усеянные трупами. Протестанты заключили сделку с дьяволом и берут огонь и серу в преисподней». – «Да, Густав в устье Вислы под Латарнией расстрелял в пух и прах флотилию Короны, – отвечал Любомирский. – И мой дядя Густав там погиб…» – «Лучше бы пустить на дно его шведского тезку», – заключал Пржыемский. За это надо было выпить. Свои запасы его новые друзья уничтожили в самый первый вечер. Да у Пржыемского ничего-то особенно и не водилось, он был бедный шляхтич из-под Несвижа Радзивилов, в придворные к Радзивилам его и отдала в четырнадцать лет вдовая мать.
Наконец они приблизились к замку настолько, что уже могли видеть бойницы, участки стены с облетевшей побелкой, красневшие кирпичами наподобие ран, мокрых еще и от дождя, и побеленную стену, но тут и там изъязвленную пулями и ядрами. На башнях были надеты как будто деревянные шлемы, кровлею укрывались и прясла. Замок казался каким-то древним воином, хотя и построен был, как рассказывали, только лет двадцать с лишком назад, как раз перед смутными временами.
Жолнеры, товарищи панцирной хоругви, пахолики, рейтары смотрели на замок молча.
– Возблагодарим Господа! – воскликнул брат Мартин, осеняя всех крестом.
– …за то, что нам не надо эту крепость брать приступом! – тут же откликнулся Мустафович, назвавший замок крепостью.
И все воины взглянули мгновенно на стены и башни по-другому.
Из ворот внушительной башни, к которой и вела грязная дорога, выехали двое всадников, они быстро протопотали по мосту через ров мимо земляного бастиона с пушками, сблизились с головой отряда и после приветствий и короткого разговора бегло осмотрели всю колонну солдат в запачканных жупанах и сапогах, развернулись и поехали возле Мустафовича. Из бойниц четырехъярусной прямоугольной башни вниз смотрели жолнеры. На самом верху башни, на караульне с колоколом мокло под дождем красное знамя с белым орлом.
Отряд ступил на мост, ведущий к стене, а потом направо – к воротам в башне. Копыта стучали по бревнам. Все проходили в арку башни, здесь звонче бряцали сабли и мечи в ножнах, звучнее раздавался храп лошадей. Николай мог бы сказать, что входит в новую жизнь… Именно внутри большой башни он остро почувствовал это и ему захотелось побыстрее уже увидеть, что там, на другой стороне, в крепости, как будто там можно было увидеть будущее. Произошла некоторая заминка, и пришлось почему-то остановиться в этой башне, под низкими сводами, пахнущими сырым деревом, известкой и мокрыми лошадями. В какой-то миг подумалось, что дальше их и не пропустят или сразу же накажут за скорбную весть или за что-то еще. Или просто перестреляют в этом каменном мешке какие-то изменщики. Рука сама сжимала рукоять сабли.
Но первые всадники проехали дальше, тронулся и Николай – навстречу серому дождящему свету.
9. Tym Smolensk
Но уже наступали вечерние сумерки, да и дождь не прекращался, поэтому хорошенько разглядеть крепость и город не довелось в этот день. Бледный сухощавый жилистый офицер в немецкой шляпе, в коротком малиновом плаще, зеленом камзоле и высоких шведских сапогах, со шпагой на боку коротко приветствовал прибывших и велел своим помощникам наспех разместить всех в каких-то амбарах налево от башни с воротами. Мустафович, разумеется, со своими пятью офицерами были отведены в хороший дом где-то в центре города.
Жибентяй по своему обыкновению хмурился и ворчал. Любомирский возмущался: «Уж мы достигли цели, и что? Как сие называется? Берлогой? Ямой?» А Пржыемский лишь усмехался, он привык к походной жизни. Но хуже всех пришлось Николаю, его лихорадило, поднялась температура. Любомирский посоветовал отправить Жибентяя за водкой. Что и было сделано. Ландскнехты скрежетали своими кресалами, высекая искру и попыхивая трубочками. Зажгли несколько факелов. Солдаты доставали сухари, соленую свинину, лук и чеснок. Дождь сильно стучал по крыше. Раздавались глухой кашель, сдержанный говор. Жибентяй вернулся злой и вымокший, с пустыми руками. Тогда Любомирский послал к немцам своего слугу, но те ничего ему не продали.
– Ладно, – сказал Пржыемский. – Сейчас.
И сам отправился – но не к ним, а к мрачным молчаливым рейтарам. Вояки послушали его, разглядывая лицо с перебитым носом и глазами с сумасшедшинкой, и уступили водки, перелили в его пустую фляжку. Впрочем, водки было немного, и Любомирский с Пржыемским лишь помочили, как говорится, усы, а вот Вржосек запьянел, пустился в рассказы о замках Казимира Великого… Товарищи слушали его с улыбкой. Потом Жибентяй раскатал походную постель, и Николаус лег. Жибентяй укрыл его волчьей шубой, уложенной в вещи шляхтича все той же заботливой маменькой, считавшей, что ее чадо уезжает куда-то к страшным Ледовитым морям.
Николаус еще слушал некоторое время голоса приятелей, дробный стук дождя, слова молитвы на немецком: «Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde Dein name, Dein Reich komme…»[19 - Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое (нем.).], польские ругательства: «Kurwa twoja matka!», литовские мечтания: «Butu gerti alu!» – «Taip apkabinti mergina»[20 - Хорошо бы выпить пива! Да обнять девушку (лит.).], белорусские речи: «Гэты горад злы, бедны, жыхары[21 - Жители (бел.).] шэльмы, зыркают, таго i глядзi, каня з-пад цябе выкрадут. Адно слова – глiна руская…» и сталь латыни: «Kessinger mundi. Tartaria. Asia. Rex mortuus est, et hic tamen vivit. Ubi vidisti? Et suffocati sunt in Borysthenen? Frigus et lutum. Satius Hispaniam iturum. Ibi est Sol, et mare, et uvas…»[22 - Окраина мира. Тартария. Азия. Король умер, а здесь он жив. Где это видано? Куда пропал вестовой? Потонул в Борисфене? Грязь и холодина. Лучше было отправиться в Испанию. Там солнце, море, виноград… (лат.)]
И дальше в своей волчьей шубе он уже качался на волнах испанских морей.
А утром очнулся от звука горна – это трубил, как обычно, ушастый синеглазый парнишка, Янек. Пора было вставать. И ему отвечали грубые луженые глотки – ругательства так и сыпались на всех вавилонских наречиях. Кашель и кряхтение неслись отовсюду. Но, по крайней мере, в щели и оконца бил синий свет, синий и золотой. Так что Вржосек в первый миг пробуждения снова как будто увидел море.
– Вставайте, вставайте, паны! – покрикивал лейтенант, откашливался и кричал еще резче и громче. – Пора привести себя в порядок! Нас будет смотреть воевода смоленский! Александр Корвин Гонсевский!
– А кто же вчера тут был? – спросил Любомирский, протирая глаза пухлыми ладонями.
– Комендант пан Станислав Воеводский, – отвечал лейтенант.
Гонсевский был известен. Он много воевал со шведами, московитами, брал с усопшим королем этот Смоленск.
Все выходили на улицу и умывались водою, принесенной слугами из колодца.
– Ты как, брат пан? – спросил Пржыемский у Вржосека.
Николаус улыбнулся. Глаза его, хоть и серые, а лучились светом, силой и здоровьем. Хворь с него сорвало, как хмарь ветром с этого неба. Вржосек, щурясь, выходил на улицу. Солнце прорывалось из-за деревянных высоких домов и дальних башен. Где-то лаяли собаки, горланили петухи, доносилось лошадиное ржание, покрикивали пахолики. Небо было чистозвонное, синее, такой цвет бывает у Балтики на горизонте. Ну а солнечные лучи густо желтели, как янтарь. На кровлях башен сидели голуби. Николаусу померещилось, что если он сейчас же поднимется на эту высокую башню с воротами, то и увидит уже татарские степи, а в другой стороне – ледовитые моря.
Примерно час спустя приехал неторопливо на белом аргамаке[23 - Турецкая лошадь.] и сам ясновельможный пан Александр Корвин Гонсевский, грузный, с черно-каштановой тяжелой бородой и пронзительным взглядом из-под собольей шапки, с вороном на плаще, ибо род его принадлежал к гербу Слеповорона. Сопровождали его вчерашний комендант Воеводский, Мустафович, еще двое офицеров.
Отряд стоял шеренгами: немцы слева, рейтары по центру, рядом жолнеры в голубых мятых жупанах и на правом фланге товарищи панцирной хоругви. С башен смотрели солдаты. Среди деревянных домов стояли горожане. Всюду шмыгали белоголовые и чернявые, кое-как одетые и многие босые дети.
Гонсевский так ничего и не сказал, только всех оглядел колюче. Говорил бледный лобастый комендант Воеводский с черными тонкими усами, свисающими, как хвостики каких-то зверьков.
– Панове! Приветствуем вас в сем граде богоспасаемом Смоленске! Здесь щит Короны. И вам выпала честь служить на этой заставе Речи Посполитой верой и правдой. Камни сей крепости политы кровью наших соотечественников. Се – польский град, хранимый пресвятой Девой Марией. Град вернула Короне длань его высочества Казимира, по-прежнему primus inter pares[24 - Первого среди равных (лат.).]. Мы скорбим о его кончине. И помним все свершения его высочайшей воли. Речь Посполитая еще не была так могуча, и богата, и пространна. Gloria![25 - Слава! (лат.)]
И нестройный, но суровый и сильный хор голосов откликнулся:
– Gloria! Gloria! Gloria!..
Следом, по знаку офицера, с высокой вратарной башни ударили пушки. Все обнажили головы. С кровель сорвались голуби, туго забили крыльями в синем балтийском небе.
Комендант сказал, что сегодня будет отслужена в костеле заупокойная месса. Затем он велел своим помощникам разместить всех по квартирам.
Николай Вржосек спросил у офицера из крепости о Григории Плескачевском.
– Капитан? – переспросил тот. – Что у тебя, пан, к нему?
– Письмо моего батюшки, – отвечал Николаус. – Они старые друзья.
– Эй, – окликнул офицер крутившегося неподалеку подростка с длинной кадыкастой шеей, в долгополой серой рубахе, портках и стоптанных, рваных кожаных сапожках. И далее заговорил с ним по-русски. Затем обернулся к Вржосеку. – Малый тебя, пан, отведет. У капитана сегодня день роздыха.
Наказав Жибентяю ждать его здесь, Вржосек отправился верхом следом за пареньком. Тот бежал поначалу вприпрыжку, потом перешел на шаг. Оглядывался на молодого черноволосого поляка, что-то бросал на ходу встречным горожанам. Вржосек внимательно осматривался. Справа белела крепостная стена с башнями круглыми и четырехугольными, с валом перед нею. Слева стояли приземистые деревянные домики с крошечными оконцами и дома побольше, даже двухэтажные, с резными петухами на крыше. Больших деревьев вообще нигде не было видно. Тянулись у домов молодые тополя, березы. Листва лишь недавно прошила мокрую кору веток и ярко зеленела, с тополей свешивались бордовые сережки. Тополями и пахло сильно, горько-сладко, волнующе и слегка печально, как на склонах Пулавских холмов в родном Казимеже. За изгородями робко и тихо ждали солнца сады. А птицы пели вовсю. Далеко над крышами виднелась стрельчатая крыша башни ратуши.
Гнедая добрая лошадь Бела месила грязь на мокрой дороге. Попавшийся навстречу житель с палкой, в серой одежке остановился и смотрел из-под руки на всадника. Шапчонку не снимал, чтобы приветствовать пана. Кровь вдруг бросилась Николаусу в лицо, взыграла гордость Вржосеков. Мгновенье он колебался, не проучить ли хама, но тут из подворотни вылетела кудлатая собака и с лаем кинулась под стройные ноги Белы, та всхрапнула, дернула головой, повела гибкую шею в сторону. Паренек обернулся и закричал на псину, быстро нагнулся и, зачерпнув порядочно грязи, швырнул в нее. Псина тогда повернула к нему, подбежала, норовя ухватить за голые щиколотки. Паренек что-то кричал по-своему. Николаус с улыбкой наскакал и ловко хлестнул плетью псину, та, визжа, откатилась. Старик тут же пошел прочь, засеменил.
Со своим провожатым Вржосек двигался дальше. Солнце уже стояло над башнями высоко, озаряя бревенчатые дома, оконца, затянутые пленкой бычьих пузырей, голубые дымы над крышами, озябшие сады. Дымы струились из отверстий под крышами, там топились дома по-черному, чего в родных местах Вржосека давно уже не было. И лишь редко над крышами краснели кирпичные трубы и трубы, обмазанные глиной.
Паренек и Вржосек оказались на дороге, ведущей к четырехугольной башне. В башне виднелись ворота. Справа от башни стучали топорами мужики. Они обтесывали сосновые бревна, в серых рубахах, подпоясанных ремешками или просто веревкой, а кто и в коричневых и серых коротких зипунах, все в войлочных белесых и серых шапках, один – с ярой черной бородой – в бараньей истертой зимней шапке. Что-то они собирались строить, может будку или ворота новые. На всадника и паренька взглядывали мимоходом. Перед воротами стоял, привалившись к стене, жолнер в синем жупане, препоясанный ремнем, в синей же шапке, отороченной мехом, с саблей на боку. К стене был прислонен и его фитильный длинноствольный тяжелый мушкет. Увидев товарища панцирника на коне, жолнер с загорелым лицом не переменил своей ленивой позы. И тут уже Николаус Вржосек не стерпел и, слегка осадив Белу, поворотил и, пришпорив лошадь, поехал прямо по дороге к башне. Жолнер наблюдал за ним. Вржосек резко потянул поводья на себя, и его верная чуткая Бела тут же осела на задних ногах и встала на дыбы. Брадатые мужики перестали махать топорами. Жолнер распрямился, оттолкнувшись плечом от кирпичей, и взялся за ствол мушкета.
– Это надо было сделать сразу, жолнер! – воскликнул Вржосек.
Скуластый усатый жолнер с раздвоенным подбородком сдвинул брови, напрягся так, что загорелое его лицо слегка посерело. Он свирепо смотрел на юного пана с жидковатыми усиками, словно вбирая его вид, – да, чтобы лучше запомнить.
Сверху, с башни Вржосека окликнули. Он взглянул вверх. Но никого не смог увидеть в тени бойницы.
– Что угодно пану товарищу панцирной хоругви?
– Ничего боле! – резко выкрикнул он, разворачивая Белу и возвращаясь к ждущему его пареньку.
Вржосек следовал за своим прытким провожатым. Справа все так же высилась стена, потом потянулся ров, щебечущий птицами, ярко-изумрудный. Они двигались по краю.
От колодца по мосту через ров шла баба с двумя деревянными ведрами на коромысле. «С полными ведрами, к удаче», – мельком подумал Николаус.