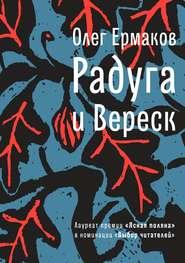скачать книгу бесплатно
– Товарищ панцирной хоругви! – с удовольствием подтвердил Николаус.
– А я помню тебя вот таким, – пан Григорий показал рукой, – таким товарищем хоругви наездников на деревянных лошадках!.. Но ведь я тебя и узнал. Узнал тогда на дороге… А вот не сообразил, как во сне. Видишь что-то, понимаешь: надо так-то поступить, но какое-то безволие находит, а? Сердце узнает, а разум ведет дальше. Служба есть служба.
– Вы уезжали по службе? – спросил Вржосек.
– Когда?.. Ах, нет, нет. Это ты путаешь. Не путай. В тот раз мы проверяли дороги, тут ведь хоть и Речь Посполитая уже третий десяток лет, но кругом московиты, в лесу разбойники. Это была служба. А с Александром мы уехали на следующий день в поместье, слух дошел… Но что мы стоим? – Он обернулся. – А это мой старший – Войтех.
К Николаусу шагнул высокий темноволосый кареглазый Войтех с темными усами и бородкой клинышком.
– Ну обнимитесь, как братья! – сказал пан Григорий. – В моих сынах наполовину кровь Короны, а это значит – полностью!
Они взяли друг друга за руки, потом Войтех похлопал Николауса по плечам. Пан Григорий подозвал и младшего светловолосого Александра. Пан Григорий заметил, что в горнице темновато, и распорядился зажечь еще и лучины, что и было вскоре сделано Александром.
– Ну расскажи, дружок, – сказал пан Григорий, – как там старый Седзимир да матушка Альжбета поживают? В письме-то он особо не распространяется, лишь просит оберегать тебя… Да, а кстати! Где твой слуга? Где твои вещи?.. – Узнав, что все еще в доме на верхнем торге, пан Григорий рассмеялся трескуче, откашлялся в сухой, но крепкий кулак. – Что же ты, любезный, думаешь, пан Плескач там тебя и оставит?.. Небось клопики-то, напасть священная, закусали, ну, признавайся?
Николаус потер переносицу и кивнул.
– Но я бы не сказал, что священная, – возразил он.
– Да как? Святые отцы их прославляют. Скармливают плоть-то свою греховную сим бестиям прожорливым. А еще вшам. Ну-ка, ваша милость, пан радный, сознавайся, тебе сии исчадия докучают? Докучают?
Николаус растерялся и начал краснеть.
– Gaudeamus![41 - Возрадуемся! (лат.)] В сем городе есть мыльни. И даже больше скажу, для пущей радости: у нас на дворе. И ради нашего возвращения с сыночком эту мыльню сегодня истопили. Все снимай перед мыльней, а нарядишься в новое. Эй, Савелий! Завядзi рыцара y лазню, вопратку яго прымеш i y хату не занось, прапарыць потым, а возьмеш для пана новую[42 - Отведи рыцаря в баню, одежду его примешь и в дом не заноси, пропаришь потом, а возьмешь для пана новую (бел.).].
– Слухаюся, пан.
– Давай, давай, – говорил, посмеиваясь, пан Григорий. – Это дело солдатское, понятное. Но в городских хоромах исправимое. Мы не святоши. И тело скормить лучше Короне, а не клопам!
Кровь бросилась в лицо Николауса, и он мгновенье колебался, раздумывая, не вспылить ли… Но ведь этот невысокий и крепкий пан с седоватым ежиком волос, жесткой щеткой как будто стальных усов и пронзительными светлыми глазами в глубоких глазницах… он, во-первых, очень напоминал Николаусу отца, а во-вторых… во-вторых – он же прав, черт побери! И молодой шляхтич повиновался. Савелий отвел его во двор, к низкой бревенчатой мыльне, держа в одной руке шипящую лучину, а в другой холщовый мешок с новой одеждой. Но сразу одежду не отдал, попросив сначала раздеться. И лучше прямо на улице это и делать. Николаус снова подумал, что во всем этом есть что-то издевательское. Раздеваться посреди грязного двора под дождем. Разве он арестант?.. Правда, по двору проложены были деревянные настилы, и сейчас они стояли с Савелием на крепком настиле… Но что-то подсказало ему и сейчас повиноваться. Он молча снял делию, саблю, жупан, шапку, шведские сапоги, портки, чувствуя мускулистым телом мелкие уколы ледяных дождинок. Всю одежду он складывал прямо на поленницу березовых дров.
– Добра, пан. Ідзi y мыльнай. Зараз прынясу святло, – сказал Савелий, входя первым в мыльню и зажигая там лучины в железных светцах над деревянными плошками с водой.
Николаус вошел следом, больно стукнувшись лбом о дверной косяк, в темную протопленную, духовито пахнущую осенним лесом мыльню. Савелий, кажется, хохотнул в бороду.
– Пся крев!.. – выругался Николаус, хлопая себя по бедру, как будто его верный клинок там и мог быть.
Савелий на ругательство внимания не обратил, показал, где кадушки с водой холодной и где с теплой, положил веник в кадушку, пожелал доброго мытья да и вышел.
Потирая лоб, Николаус озирался. Занесли его черти в эту Тартарию… Но делать нечего, не сбегать же голышом на Беле в дом, клоповник на верхнем торге. И Николаус принялся мыться, вдыхая душистый аромат дубравный от веника… Это они хорошо придумали… Будто вернулся в дубравы на склонах Пулавских холмов над Вислой…
В новой, чуть великоватой одежде, чистый и почти сияющий Николаус вернулся в хоромы. Здесь его ждали, правда еще не за столом, накрытым белой скатертью и уже уставленным глиняными и деревянными блюдами с холодными закусками: рыбой, грибами, ягодами, капустой, солеными огурцами и кувшинами.
– Ну, садись за стол, угощайся, чем Бог послал. Как наша мыльня? Жар не ушел еще?.. Одежка почти впору. Завтра вернем твое платье. Веник был добрый?
– Пах чудесно, – сказал Николаус.
– Ну, пах, это да. А сек-то шкуру хватко?
Николаус растерянно заморгал.
– Да ты, ясновельможный, его что, только нюхал? – спросил пан Григорий и рассмеялся, сверкая глазами в огне свечей и лучин.
Заулыбались и его сыновья.
– Это же розги для мыльни! Эх, надо было Савелию наказать отхлестать тебя хорошенько. Так тут моются, сынок Николаус. Дерут себе шкуру. И говорят: лучше в бане семь шкур спустить, чем на рынке. Торговая казнь делается, правду сказать, не вениками и розгами, а батогами[43 - Батоги – прутья толщиной в палец или палки.]. Хотя даже батоги лучше, конечно, чем кнут. Ладно, в следующий раз пойдем в баню все вместе. А сейчас – пора и к сражению брюха наповал приступить! Ну-ка, рыцари, молодцы! Коли и руби! В атаку!
И все начали занимать свои места за столом.
Чуть позже появилась и хозяйка дома, пани Елена, в двух платьях, зеленое поверх, с длинными собранными на локтях рукавами, в повойнике на волосах, расшитом бисером и украшенном серебряными монетками. Улыбка светилась на лобастом лице, бликами перекликаясь с серебряными увесистыми серьгами с каменьями. Николаус вспомнил о сумке, ее он забыл на Беле. Войтех позвал громко: «Савелий!» Появился тот кудлатый мужик, Войтех приказал принести суму с лошади. Савелий этот как будто разумел польский язык, но пан Григорий, наверное, ради верности говорил с ним на другом языке.
Из сумы Николаус доставал гостинцы: турецкий кинжал с рукоятью в виде львиной головы, инкрустированный, острый, – пану Григорию, венецианское зеркало в медной оправе, – пани Елене, а братьям – норвежские шахматы из кости. Шахматные фигурки все тут же принялись разглядывать, забыв о закусках, пиве и водке. Это были изящно выточенные фигуры рыцарей, коней, королев и королей, причем одни были крестоносцами, другие – сарацинами с верблюдами вместо коней и слонами вместо башен.
– Не хватает только какой-нибудь реки и флота, – сказал пан Григорий. – Благодарствуем. Роскошные подарки прислал нам пан Седзимир. Только вот мои рыцари лучше управляются с саблями. А этой умной игры не разумеют.
– Я научу, – тут же сказал Николаус.
И по всему видно было, что готов приступить к этому сейчас же, да и у сыновей пана Плескачевского глаза разгорелись, особенно у младшего. Но пан Григорий напомнил о другом ристалище – о столе, который уже заставил Савелий и горячими блюдами: подовыми пирогами с овощами и рыбой, студнем, рубцом с луком и гречневой кашей, также там был запеченный бок бараний и много чего еще, у Николауса после солдатской кухни глаза, по правде, разбегались, и он жалел, что нет с ним рядом чревоугодника Любомирского, нет быстрого Пржыемского. Пиво после мыльни казалось особенно вкусным, хотя и было мутным, с каким-то дегтярным, что ли духом.
– Славное пиво, – сказал Николаус, вытирая пену с пушистых еще и не густых усов.
– Какое? – спросил, обернувшись к супруге, пан Григорий.
– «Мартовское», – подала голос пани Елена, и тяжелые серьги в ее ушах плавно покачнулись.
– Со вкусом Борисфена, – добавил Войтех, отламывая сочный кус от бараньего бока.
– Мутноватое оттого, – объяснила пани Елена, – что мы его сдабривали для крепости пущей: мед добавляли да патоку да после чуть кипятили. Бери, пан, кушанья, на здоровье, без церемоний.
– Откушай рубца. Каков?! Правду говори!
– Но… – замялся Николаус, – что-то совсем не соленый?
Все заулыбались.
– Это, брат, оттого, что живем мы, как и все московиты, почти на Ледовитом окияне. Уразумел ли?
– Нет, – сознался Николаус.
– Да зимы у них лютые, потому и не присаливают все, как у нас. В погребах – ледниках – снег лежалый до свежего снега хранится все лето, осень, весну. Ну добра, Савелiй, дзе соль для пана? Ён пакуль ня обвык[44 - Ну хорошо, Савелий, где соль для пана? Он покуда не обвык (бел.).].
– Тут говорят: недосол на столе – пересол на спине, – заметил Александр.
– Да, вот тебе солонка, – подтвердил пан Григорий. – А ежели б Савелий пересолил – березовой каши отведал бы! Хе-хе…
Хмель ударил в голову Николаусу, и он вдруг ощутил что-то необыкновенное… Да, похоже, не зря он стремился по грязным дорогам, через разлившиеся, несущие сор и ветки, обломки лодок реки, духовитые леса – сюда, в этот замок на краю мира, как бы на берегу моря или даже океана. Его охватило предчувствие чего-то важного, грядущего, судьбоносного.
А хозяин, выслушав все новости Речи Посполитой и жизни его друга, увы, переменившего меч и судьбу воина на мошну торговца, начал неторопливо рассказывать о поездке в Полуэктово Долгомостского стана, где их задержали разлившиеся реки, но посещение было необходимо из-за самоуправства местных крестьян, порубивших рощу на Ливне, речке, потом о службе в Смоленске и – под воздействием ли пива или ржаного вина доброго, сиречь водки двойной перегонки, или под напором нахлынувшего увлекся – и уже перешел к делам двадцатилетней давности, когда он таким же молодчиком, как Николаус, прибыл сюда под знаменами самого Сигизмунда Третьего Вазы – брать приступом сей замок.
11. Рассказ капитана Плескачевского
После январского сейма король начал готовить этот поход, да, и он был прав. Пора! Мы засиделись. Заждались. Шляхтичам вредна жизнь праздная, а такова любая жизнь, ежели ты не в походе. Пора было вернуть сей замок, сей порт на Борисфене, сей Smolenscium Короне. Да, двести лет назад он принадлежал княжеству Литовскому, а не Кракову – целых сто лет! Но сейчас Господу угодно было соединить обе силы: Корону и Литву, – прочнее, нежели ранее. Нам необходим этот форпост. А Руси – Руси нужен был государь, а не вор. Таковым и мог стать сын короля Владислав либо сам Dei gratia rex[45 - Божией милостью король (лат.).] Сигизмунд, хотя и швед… Не все его любили у нас… В Московии смута была – не мартовская, подобная этому пиву, – кровавая. Один царевич убиенный объявился, потом другой. Заманили дочерь Мнишек с отцом, суля царство, играя доверчивым девическим сердцем и любящим сердцем отца. Первого Димитрия, сразу как свадьбу справили, порубили московиты, вбили в пушку и выстрелили. Всех служанок и женщин двора, дочерей польских вельмож обесчестили, да и саму Марину, говорят, уж прости, хозяйка. Мне эту историю сказывал гусар пан Унишевский, оказавшийся в самом пекле кремлевском. Таковы нравы в Кремле: неделю назад слезы лили, умиляясь на царя Димитрия и его царицу Марину Юрьевну. А тут как с цепи сорвались, бороды дымились в крови. (Здесь высокий плечистый Войтех позволил себе возразить, что пану Унишевскому нет особого доверия. На это отец отвечал, что уж он сам был в числе пленивших воеводу Шеина с бородой, как метла на бойне. Но сын возразил, что речь не о бородах, а о фрейлинах и самой Марине Юрьевне: есть сведения, что московские бояре надругательства не допустили, вырвали полураздетых дам из лап черни.) А после все равно ее удушили в кремлевской башне или отравили… бедную пани Марианну. И сынка трех лет от роду – позорно повесили.
…Но тогда она еще была здрава вместе со вторым Димитрием. И славные хоругви Короны шли к Смоленску. Правда, поначалу сил-то оказалось маловато, паны мои радные. Венгерцы, немцы, литовские татары и шляхта – всего чуть более десяти тысяч. И около тридцати пушек. Это на такой-то замок?! Но король и гетман Жолкевский, канцлер Сапега, маршал Дорогостайский, старосты Потоцкие, староста Стадницкий… кого еще забыл? Кавалера Новодворского! Все они полагали, скажу вам, полагали вещь немыслимую: добровольную сдачу. Такого-то замка? Зачем же московитам было лишь пять годков тому назад и возводить сию твердыню, а, я спрашиваю? Но тогда и мне, молодцу, грезящему о подвигах, тоже такое мнилось: сдадутся смольняне на милость шляхты великодушной.
В этом нас уверило и то, как принят был первый гонец с посланием Сапеги к смольнянам: а принят он был, не в пример тому, как приветствовали таковых-то гонцов московиты, принят был любезно, хотя ответ воеводы был отрицательным. И все понадеялись, что оттого сие произошло, что Смоленск и воеводу оставили дворяне с оружием, ушли.
Чуть позже уже сам Его Величество соблаговолил обратиться к смольнянам с универсалом… Это был прекрасный универсал, мои дети, прекрасный, уверяю вас. Любые другие жители Московии приняли бы его с радостью. Король обещал с помощию святых угодников и Девы Марии оборонить смольнян от врагов всяческих зловредных и промышляющих худо, освободить холопов от рабства их постыдного, унять разлитие крови христианской, твердо укрепить православную их веру и даровать благодать мирных лет и тишину… И, мол, вы бы, смольняне, радовались тому и нашей королевской милости, да и вышли бы с хлебом-солью, по обычаю, да пожелали жить отныне под королевской рукой нашею… Sic![46 - Так! (лат.)]
Да норов-то у них оказался не менее нашего. Так вспомните, сто лет Smolenscium был в Великом княжестве Литовском, а они, литва, нам почти ровня. И мы вместе громили тевтонцев при Грюнвальде[47 - Грюнвальдская битва в 1410 году объединенных польских и литовских сил с войском Тевтонского ордена, завершившаяся полным разгромом последнего.]. И как раз смоленский полк не дрогнул там, а, поговаривают, вырвал победу из закованной длани псов-рыцарей и вручил ее Владиславу Ягайло и Витовту.
Воевода их Михайло Шеин ответствовал королевскому посланцу, что ежели тот еще раз подступится с таковой-то грамоткой-речью про немедленную сдачу, то его, сердечного, напоят-де водицею днепровскою, закусить дадут тины. Гордец!
Как мы перешли нашу границу у речки Ивалы, подканцлер королевства Щенсный Криский поздравлял короля с счастливым вступлением в то государство, которое смел удерживать за собою сто лет лет грубый народ русский.
Утро было туманное, деревья похожи на людей, правда слишком больших, начинался дождь. Но едва его величество переехал мост, небо стало ясно и выкатилось солнце. Все повеселели. Мы вступили в эту страну мрака, неся ей свет.
Паны радные разом желали кинуться на сии высокомерные словеса и доставить к стопам короля победу. Но идти приличествует на штурм пехоте, а не всадникам. А пехоты было маловато, чуть более четырех тысяч. И все-таки мы выступили, дабы проучить жестоковыйных смольнян. (Здесь Войтех поинтересовался, так ли уж мало тридцати орудий? Отец ответил, что мало, ежели на башнях и стенах их было в десять раз более, а у Короны из этих тридцати только четыре пушки осадные.)
Казаки господина Невядомского наткнулись на дороге на посланца Шеинова. Это был повешенный смольнянин, сообщавший литовскому канцлеру о смоленских делах, с письмецом, мол, вот висит вор такой-то, а висит за воровство свое с Львом Сапегой.
Хорош привет воеводы Михаила этого Шеина, ничего не скажешь.
Еще издали на подходе к Смоленску увидели мы дым и зарево на окрестных лесах, холмах и небесах осенних. Что такое? Господа? Смольняне одумались и ради вольностей Речи Посполитой, ради Магдебургского права[48 - Магдебургское право – городское право, по которому жители городов освобождались от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост, а подчинялись городскому магистрату, выборным судьям.], ради мирной жизни схватили своих воевод, учинили рокош?[49 - Мятеж, восстание, от польского rokosz.]
Но подойдя ближе, мы услышали пальбу со стен – смольняне палили в нас. А огнем был охвачен город на правом берегу Борисфена. O Mater Dei![50 - О Матерь Божия! (лат.)] Там полыхали тысячи домов. Они не щадили даже своих церквей старожитной греческой веры. Перед воротами толпились стада. Туда поскакали – конечно, не мы, гусары, а легкие гайдуки, отбивать скот. Смольняне обернулись и кинулись врассыпную, а иные похватали кто что мог и пробовали защищать своих коров да овец, но гайдуки легко вошли в эту оборону, как нож в сало, пастухи сии падали рассеченные, теряли головы, руки. Правда, тут смольняне начали палить густо, доставалось и своим, и коровам с лошадьми, которые утробно мычали и ржали, разбегаясь во все стороны, падая в Борисфен, сшибая рогами и гайдуков. Мы все глядели на сие первое сражение со Спасской горы, порываясь в бой. Но нам запретили. Штурм надо было подготовить. Гайдукам удалось увести часть этих стад, сколько-то было побито пулями и ядрами, остальной скот загнали-таки в замок. Да! Им это очень скоро пригодилось.
Итак, смольняне затворились в своем замке и постановили держаться, сколько хватит мужества. Ихний архиепископ Сергий засвидетельствовал у Господа эту клятву службою в церкви на горе.
И этого мужества, Николаус, им достало на два года.
Два года! Кто бы мог подумать, что дело так затянется?.. Налей, Савелий, мне водки. И я выпью за моих друзей, сложивших здесь головы, славных гусар с крыльями, наводившими своим треском страх на неприятеля. За панов Бодзинского, Збаражского! За пана Гаевского, старосту, убитого выстрелом из гаковницы[51 - Малая пушка.] в шею, когда он стоял неосторожно на шанцах[52 - Укрепление, окоп, защита артиллерийской позиции.]. За лейтенанта немецких пехотинцев Пауля Ланге, бесстрашного голштинца, убитого стрелой, попавшей ему прямо в глаз… В левый глаз… И, рыча, он выдрал ее вместе с глазом – да и замертво рухнул. Великий был насмешник, рыжий силач. За француза Гвери, мастера петард[53 - Мины.], подкопов… Но постойте, изящный Гвери в дурацком парике остался жив. Да, и это было чудо, милость Девы Марии. Смольняне вели встречный подкоп от стены и зажгли порох – Гвери выбросило вверх! Ого-го! Он так не летал даже во сне. Потом он говорил, что увидел даже все замковое устройство, дома, подводы, пушкарей на стене, порубленные деревья, костры. И увидел – он увидел кое-что еще, а именно – радугу между горами в замке. Это зимой-то? Зима его и спасла. Гвери де Вержи упал в сугроб и остался жив. Да!.. Но… Но с тех пор у него начала трястись голова, отшибло слух. А главное, главное – его начали донимать видения. Для солдата – это слишком. Он же не пиит? Как наш Куновский. Радуга – ладно, ее и мы все однажды увидели, уже летом, как и обычно – после дождя, хотя дождь произвел свое ошеломляющее в высшей степени воздействие на все оружие в наших руках и в руках неприятеля: только Брацлавский воевода разрушил ядрами три башни и часть стены и туда уже ринулись венгерцы, мы, казаки, немцы, как из совершенно ничтожного облачка – вот не более шкуры бараньей – хлынул какой-то уже библейский дождь. И загасил вмиг фитили, намочил порох, сделал скользкими и неприступными склоны, и посему приступ не вышел. Ну а над проломом в стене и сияла чудесная радуга, так что художник его величества схватился за свои приборы, велел натянуть парусину и принялся рисовать. А наутро пролом был уже завален камнями, землей и бревнами, смольняне всю ночь трудились. Дождь пособил им.
А Гвери Вержи толковал, что се длань защитницы града, и он ее видел. Кого? Virgo Maria[54 - Деву Марию (лат.).]. Видел над дымным городом в плате радужном. Смольняне почитают свой град под ее защитой, и храм на горе есть Ecclesia Beatae Mariae Virginis Assumptae[55 - Церковь Успения Пресвятой Девы Марии (лат.).]. Но дальнейшие события опровергли все его прозрения. А самого несчастного Гвери Вержи пришлось отправить в Варшаву, король не пожалел денег на его лечение… Что с ним стало? Далее его следы теряются в Париже.
Вот за них я и выпью этой хлебной дикой смоленской водки. Выпейте и вы!
…Но полегло здесь рыцарей и пахоликов многажды больше.
Мм… дзёрзкая гарэлка…[56 - Дерзкая водка (бел.).]
А первый штурм, первый штурм не удался из-за трубачей.
Литовский маршал перед рассветом послал из пушек и мортир приветствие калеными ядрами воеводе и архиепископу. Ядра улетали за стену, вбивались в стену, эхо разносилось по спящим окрестностям… Но уже никто и не спал. Рыцари готовились к броску. Воздух был наполнен запахом дыма и гари. Горький воздух той осени!.. И пехота господина Вайера, немцы, наконец выступила, ударила с запада. А с другой стороны замка пошли Новодворский и Шембек. А с юга замок прикрыт болотистой местностью. С севера его хранит Борисфен. Немецкие пехотинцы заложили под ворота петарды, но взрыв произвели ничтожный. У господина Новодворского поначалу дело пошло лучше: в Авраамовой башне петарды выбили ворота. Венгерцы ждали сигнала трубачей, пошедших с подрывниками специально. Сигнальщики должны были трубить в случае удачного подрыва… И подрыв был удачен! Был!.. Но где трубачи? Они сбежали. Да, мои панычи, победа бывает в зависимости от музыкантов. На этот раз музыки победы не прозвучало. (Здесь Николаус поинтересовался, что было потом с трубачами этими? Пан Григорий ответил, что их хотели повесить, но по милости его величества погнали, как баранов, этой же ночью впереди пехотинцев Людовича Вайера на штурм главных ворот – Днепровских в пятиярусной башне, которые были снаружи укреплены шанцами и срубами; немцам удалось эти срубы запалить и опрокинуть смольнян, броситься за ними, попытаться на плечах их ворваться в чаемый град, но тут смольняне открыли бешеную пальбу из ружей и пушек. Провинившиеся трубачи и были в клочья изодраны свинцом и каменьями. Что ж, пуля лучше воровской веревки. Штурм снова был отбит.)
И тогда началась долгая осада.
Маршал Дорогостайский установил на северной Покровской горе за Борисфеном орудия и через реку повел огонь по замку. С запада со Спасской горы тоже била артиллерия. Каленые ядра запалили замок во многих местах. Мы обрадовались. Но смольняне быстро все загасили. Стрельцы и пушкари у них вели по нам огонь. А жильцы, даже и женщины с детьми, как то видно было в подзорные трубы, тушили пожары, рыли землю, таскали камни и бревна. Только наши пушки проделают пролом в башне или стене, как жильцы, ровно муравьи, кинутся в это место и зачнут все заделывать.
Мы действовали не только кнутом, но и пряником. Посылали гонцов, глашатаев, суливших смольнянам различные выгоды при сдаче и, наоборот, несчастья при упорстве. Все было впустую. Те, за стеной, твердили как попугаи, что-де крест они уже целовали Шуйскому, а другого царя знать не хотят. Но ведь этот Шуйский мало чем отличался от узурпатора лжецаревича второго Димитрия. Он подговорил чернь броситься на царя Димитрия, всеми московитами признанного, и венчанную на царство Русское Марину Юрьевну. Но смольняне вдуматься в это дело не желали. Крест целовали, и все. Ну, так и самому сатане можно жезл целовать!..
Артиллерия наша была слаба. И мы ждали осадных орудий из Риги, кои доставить должны были Двиной. А смольняне совершали дерзкие вылазки и даже, атаковав шанцы Стадницкого, захватили знамя. Хорунжий, правду сказать, был пьян, но храбро кинулся отбивать знамя, да только получил рану и свалился, а те так и ушли. Тогда поручика, командовавшего людьми на этих шанцах, приказано было казнить. А семидесяти двум гайдукам, проворонившим русских, наказано идти впереди всех на следующий приступ. Поручик был хорош, смелый, белокурый, звать Анджеем. Но командовать совсем не умел. Слишком молод. Его только назначили. И сразу лишили звания, да и белокурой головы. Dura lex, sed lex[57 - Суров закон, но закон (лат.).], как говорили древние.
Удалось им занять и шанцы перед Чуриловским рвом на западе. То и дело высыпали они с пальбой с бочками и ведрами к Борисфену – брать воду. Перебежчик сказывал, вода от действий орудий уходила из колодцев в замке. Сказывал, что и все дерева у них на учете, хлеб, соль. По избам теснота, а тех, кто пустит кого к себе по найму, со двора сбивать. Воеводская изба выпустила поручную запись, ее должны были принимать крестьяне, пришедшие в осаду, чтоб им верно служить государю Василию Ивановичу, целовать ему крест, в Литву не сбегать, изменникам вестей не носить, добра литовским людям не желать, бояр слушать и с Литвой биться до смерти…
Переметывались помалу людишки из замка, больше от голоду, подлого звания, крестьяне, коим приходилось кормиться милостыней, ходить Христа ради по миру. И чтобы им не помирать с голоду, брали веревку, повязывали бойницу и спускались на нашу сторону, бежали во тьме.
Но и наши в замок уходили, как это ни прискорбно. Один пахолик обокрал жолнера и дал деру в замок. Воевода его снова отправил к нам – на разведку. И тот все вынюхивал и снова в замок ушел. Через время – опять к нам, стараясь с тем жолнером не сталкиваться. Да вот же бывает: жолнер тянул с другими застрявший воз и этого пахолика окликнул: пособи, мол. Тот пристроился – глядь… Бежать было, да его перехватили. Ну и приступили к расспросам пристрастно. Он все подробно рассказывал и просил отпустить его шпионом в замок: де, он ведает, где казна пороховая, и все подорвет. Но ему не поверили, отвели к обгоревшему дереву и вздернули.
Два орудия у нас вышли из строя, от стрельбы появились изъяны, расколы наметились, осталось только еще два. А из Риги орудия еще не пришли. И мы как кроты принялись вести подкопы, а смольняне – свои подкопы под наши подкопы. А сверху уже зима русская, лютая. Иной раз там, под землей, происходили стычки. В январе смольнянам повезло подорвать наш подкоп и задавить землей гайдуков да самого инженера Шембека. Правда, Шембек оказался счастливцем – правая его рука была свободна, и он ею сумел выкопать все свое тело. Тем и спасся. Минеры хотели, как мыши, сгрызть этот замок. Но большого успеха не имели.
Весной прибыли орудия из Риги. Но посильнее сих орудий было воздействие голода. К нам прыгали с замка совсем оголодавшие смольняне. Хотя, как показывали допросы, воевода Михайло Шеин торговлю хлебом для корысти запрещал и отводил для того место перед Днепровскими воротами. Но это еще только у посадских да крестьян брюхо подводило, а боярские дети, дворянство и стрельцы хлеб ели, ежели и не от пуза, как говорится, но во здравие.
Шеин хлеб раздавал дворянам, оказавшимся в осаде, – из различных смоленских городов, которые и пришли-то сюда без запаса, да еще с семьями и людьми. Воевода умен был… Да и сейчас есть, жив. Посадским он тоже хлеб давал. И только на крестьян ничего не оставалось. Те и убегали к нам. И мы их кормили, по человечеству.
Да еще у них в замке началось моровое поветрие. Беглый стрелец с ошалевшими горящими глазами и замызганной бороденкой говорил, что каждый день в замке похороны, да знатные: по сто человек закапывают. И все лежат больные, а здравых только человек с две тысячи.
Они, смоленские сидельцы, как их московиты называли, они надеялись на родню царя, молодого боярина Скопина-Шуйского, отбросившего войска Димитрия Второго от Москвы и вообще дельно воевавшего. Да на пиру московиты его потравили. Дядька его царь Шуйский и потравил из опаски. Другому родственнику доверил войско, а мы его разбили! Семь тысяч гусар ударили по этому войску московитов под Клушином, четырнадцать тысяч трещавших крыльев навели такой страх на них, что бросились те прочь, роняя ружья. Хоть московитов было за тридцать тысяч. Гетман Жолкевский, оставив на время осаду Смоленска, летучих гусар и вел, и ах, как я жалею, что как раз выбил правую руку, гоняясь за одним боярином под этими стенами, когда смольняне осмелились на вылазку. У него был соболий воротник, и мне не терпелось отделить сей воротник от забубенной головы. Сперва его прикрывали стрельцы, так что немцы не могли подступиться. Но тут в дело вмешались мы, ринулись с копьями наперевес и быстро рассеяли стрельцов. А я, наметив пику в сего боярина, на полном скаку промахнулся да так врубился в бревно полусгоревшего перед стеной сруба, что не удержался и вылетел из седла своего гнедого. А тот боярин – ко мне на коне, с саблей, голубые глаза в красных прожилках, я их до сих пор помню. Моя сабля сбоку… А я не могу пошевелить дланью. Попытался и закричал от боли, как будто мне оторвало руку и лишь на жилах она повисла. Но тут меня и спас немец, рыжий Ланге, – выстрелил из пистолета… осечка… рраз! Просто метнул тяжелый пистолет, и тот рукоятью пронзил щеку боярину, да так, что посыпались зубы, а глаза голубые в красных прожилках едва не вылетели от боли, и он тоже свалился с коня, вскочил, схватившись руками за голову… Тут ее и снес подоспевший с другой стороны товарищ – разорвал копьем на скаку, словно какую-нибудь гнилую колодину или тыкву. Я еле увернулся от кровавого копья, упав на колени, и Ланге отскочил в сторону от храпящей лошади. Вот так удар! Это был пан Ляссота.
Ваш капитан, будущий капитан, спасся таким образом. Но не смог уйти с хоругвями Жолкевского на славную битву, которую будут помнить потомки. Плечо мне вправил лекарь голландец, напоив водкой. А я его за ту милость поил рейнским. Но руку пришлось держать на перевязи, она долго ныла и оставалась вспухшей. Тогда, не желая оставаться в стороне, я принялся с усердием испытывать левую руку: учился стрелять и рубил саблей тыквы. Ведь дни Смоленска были сочтены, и вот-вот мы должны были предпринять решительный штурм. На Москве бояре низложили царя Шуйского, насильно постригли его и в конце концов передали с двумя братьями Жолкевскому.
А до того пан Жолкевский отдавал его королевскому величеству булаву Дмитрия Шуйского, усаженную камнями, а также тринадцать вражеских хоругвей.
Осенью гетман Жолкевский доставил пленных в наш лагерь. Мы увидели их, да, этого старичка с длинной седой бородой, длинным горбатым носом, большеротого и глядевшего исподлобья. Маленькие глазки беспощадно простреливали наши головы насквозь… Но и только. Мы оставались целы. А ясно было, что он мечтал вымостить дорогу к главным воротам Смоленска нашими простреленными головами. Был он, как и его два брата, в простой одежде. Хотя должен был носить рясу. Ему показали Смоленск из-за реки. Может, и со стен кто его увидел… Смольняне ожидали царской милости, ждали боярина-освободителя Скопина-Шуйского, а вместо него дождались жалкого старичка-отравителя. Ведь никто не сомневался, что это он отравил на пиру своего богатыря племянника.
И его с братьями увезли дальше, в Речь Посполитую, где в Варшаве уже на следующий год устроили достойную встречу царю русскому, приняли его с почестями… А главное – позабавили народ. И этот старичок, как рассказывают, пал ниц во дворце пред его величеством, как и подобает царю варваров. (В этом месте пани Елена опустила глаза, а Войтех снова позволил себе заметить, что этому рассказу пана Унишевского противоречит рассказ ксендза Мархоцкого, чей брат присутствовал там. Пан Григорий взглянул на него, потом перевел глаза на супругу, хотел что-то сказать, но в этот миг в светце одна лучина вдруг, ярко вспыхнув, вывалилась из зажима и с шипеньем упала в прямоугольное блюдо с водой. Пан Григорий посетовал, что Савелий плохо укрепляет лучины и однажды все здесь также вот пыхнет – сосновый дом, двор, как это недавно случилось у ротмистра Домарацкого!) Тут мне вспомнился другой ротмистр, Модзелевский. Он вдруг еще ранее, в первую зиму осады напал со своими людьми на обоз наших же литовских татар и пограбил их. На него донесли. Модзелевский все отрицал. Во всем винил какого-то татарина, оскорбившего его и погрозившего передаться русскому царю. Ротмистру велено было представить сего татарина. И тот не смог. А посему, после некоторого ожидания, его вывели на поляну посреди лагеря, в одной белой рубашке, штанах и сапогах, простоволосого, и в обильно падавшем снеге велели опуститься и склонить голову, что Модзелевский неохотно, после понуканий и уговоров сделал. Тут свистнула сабля, и голова ротмистра кувыркнулась. В войске, где были и венгерцы, и немцы, и русины, и литвины с поляками, да еще казаки и татары, подобные случаи грабежей страшны, словно пожар в деревянном городе.
Нам надобно было делать одно дело – возвращать сей град Короне.
И мы его взяли у этого медвежьего народа.
12. Продолжение рассказа Плескачевского
Ну, коли вы еще бодры, и ты, наш гость, так слушайте и дальше сие повествование о брани. Толькi найперш няхай Савелiй напоyнiць мой кубак сакавiцкiм пiвам, пара асвяжыцца…[58 - Только сперва пусть Савелий наполнит мой кубок мартовским пивом, пора освежиться… (бел.)]
Да! Potum nice![59 - Славный напиток! (лат.)]
Легко было произнести слова о взятии града. А нам еще предстояло год его брать. Дела наши были не так хороши, как это может показаться, нет, нет… Войска для такого замка было мало. Орудий тоже. С топорами и саблями думали наскоком взять – да куда там. Петардами – тоже не получалось. Подкопаться тоже не удалось. Гусары не желали становиться пехотой. А разве на коне возьмешь замок? В войске зрело недовольство. Запасы провианта надо было пополнять. Денежное довольствие не платили. Однажды и я отправился с командой на промысел. Нам нужен был фураж, лошади отощали. По октябрьскому зазимку, как говорят московитяне, наш отряд в тридцать семь человек гусар, товарищей панцирной хоругви и сорок пахоликов, с подводами, двинулся на юг от Еленевских ворот. Здесь у них старинный путь. Выступили рано и, так как морозец оковал великие местные грязи, быстро оставили замок позади. Деревни вокруг пустовали или были пожжены. Крестьяне ушли кто куда. Большинство – в замок, другие в отдаленные места. И нашему отряду приходилось скакать дальше и дальше, пока мы уже не достигли одного села, славного тем, как нам стало известно позже, уже во время спокойного жития в замке, – тем славного, что смольняне разбили там воинство Батыя, а предводитель ихний, римский воин Меркурий стал святым, ибо он и повел отряд смольнян на сражение по велению Матери Божией и был в бою обезглавлен, но вернулся к стенам Смоленска, держа свою главу, и упал у Молоховских южных врат, чрез кои твой отряд, Николаус, и въехал сюда.
Разведчики, бывавшие здесь прежде, доносили о зажиточных и еще не тронутых деревнях далее, а именно: о Словаже, о Васильеве, Птахове, Станькове, Могарец, Горавичи, Белкине, Мончино… Теперь-то я все сии берложьи наименования хорошо усвоил. Королевским привилеем четыре года назад был пожалован землею в стане Долгомостском.
И туда мы стремились.
Да и застряли в тамошнем болоте за селом, ибо недруг разобрал клади. И клади эти разобраны оказались не сразу у начала переправы, а в середине. А пробовали идти так – солнце уже светило сильно и действие ночного мороза иссякло, стали вязнуть повозки, лошади. Стали поворачивать подводы, да тут и увязли, одна лошадь по уши ухнула в прорву окаянную, судари мои. И мы, всадники, кто смог, повернули, выбрались на твердый берег и пошли к северу, где на холме стоит большое село над Борисфеном. А часть наших осталась вытаскивать увязшие повозки, ладить настилы. В большом том селе уже побывали наши добытчики с месяц или того более назад, изрядно его обобрали, и мы не хотели туда вступать, да что делать. Встретили нас неласково. Сена у них совсем не оказалось. И мы велели пахоликам брать с крыш солому. С каждого двора постановили дать по четыре овцы, либо одну корову, либо два поросенка, либо двадцать кур. Начались препирательства, свары. Я этого не люблю и десять раз пожалел, что ввязался в сию кампанию. Не гусарское это дело. Но по моему увечью сюда меня ротмистр князя Острожского, кастеляна Краковского, и определил. Один мужик разъярился и погнал быка прочь, к реке, тот с обрывистого берега бултыхнулся в осенние воды Борисфена да и поплыл, фырча. Ну, казаки схватили того мужика и кинули следом, он немного отплыл в одежде и начал тонуть. Так и потонул, а быка казаки застрелили. Пришлось брать лодку и гнаться за мертвым быком, потом тащить на веревках, грузить на отнятую подводу.
А когда мы вернулись к Долгому Мосту, как называлось то село, где ихний святой ходил обезглавленным, то застали посреди болота и разбитых кладей одни трупы наших и опрокинутые телеги да побитых и по уши утопших лошадей. В телах торчали стрелы. Будто лучники татары того Батыя на них и напали. Тут же ринулись к деревенскому люду, пылая местью и намереваясь поджечь славный тот Долгий Мост, но мне удалось задержать исполнение намерения наших. Вызвали старосту именем… Меркурий же, а по-ихнему, деревенскому, Мирька, с окладистой бородой, синеглазый… Он и по сию пору жив, только борода уже белая, ровно высушенный лен, а глаза бесцветные, слепые. И тот сказал, что налетели на наших точно татары. Мы не поверили. Но вскоре явился там живущий дворянин Никита Чечетов… (Капитан взглянул на пани Елену, и легкая улыбка тронула его лицо со слегка покрасневшими жесткими скулами. Полуулыбка осветила и лобастое лицо Елены.) И сей дворянин заверил нас, что на обозников в самом деле напали татары, уж он-то знает их облик, ибо в пограничном с Диким Полем городе ведал строительством стругов, что спускались по Сосне в Дон. А как начались смутные времена, и город наполнился всяким отребьем, и струги начали жечь, вернулся в родной край, где, в Смоленске, и начинал ладить лодки, смолить их, на Смядыни было у них с батюшкой и братьями это дело, так сказать верфь. А потом его позвал московский боярин в тот город, пограничный с Диким Полем. Я спросил его, отчего же он сидит здесь? Никита Чечетов отвечал, что сии времена не для строительства… И он, этот дворянин, спас село Долгий Мост, в котором – на некотором отдалении – и жил с семьей в усадьбе. А с ним и дочерь Елена Чечетова. Что, признайтесь, мои судари, знаменательно, ведь и путь тот в южные княжества именуется Еленевским. Хотя и утверждают, что сие прозвание произведено от ели. Но я-то женат не на дереве?.. І пара yжо нам усiм выпiць за нашу гаспадыню, панi Алену!.. Савелiй, дзе ты?..[60 - И пора уже нам всем выпить за нашу хозяйку, пани Елену!.. Савелий, где ты?.. (бел.)]
…Но кто же были эти татары? Этого нам так и не удалось выяснить, паны мои. Может, наши татары, недовольные тем нападением ротмистра Модзелевского? А я и был как раз отправлен с его людьми. Но самого ротмистра уже не было в живых, он понес заслуженное наказание за разбой в лагере. Или этого им показалось мало? Но могли ли они незаметно оставить лагерь и последовать за нами? Или все-таки это были другие татары, из тех, кто служил московскому царю… уже и не царю, а семи боярам, взявшим власть в Кремле? Или они были в услужении у ложного Димитрия? Его отряды как раз недавно захватили Козельск. Или это были татары сами по себе, пустившиеся в поход на рысях по Руси, что осталась точно по русской пословице: без царя в голове? Таких отрядов лихих много рыскало всюду: казаки, татары, шведы, англичане, шотландцы. Русь являла собою настоящий Вавилон. Но сия башня не к небесам тянулась, а растянулась от края и до края.