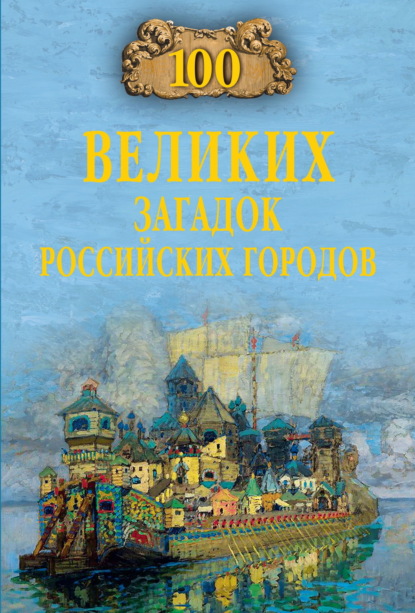
Полная версия:
100 великих загадок российских городов
С предпоследнего заседания суда Шереметьев вернулся сам не свой. Ожидалось окончательное вынесение судебного вердикта, а доказать принадлежность дома Наташи Ростовой МСПС не удалось.
Надо сказать, что под круговой парадной лестницей в центральном корпусе дома расположены большие цокольные переходы. Если пройти с левой стороны, выйдешь к правительственному подземному переходу из дома Ростовых в Дубовый зал ресторана Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в тылах усадьбы. Этой дорожкой обычно проходили откушать различные почетные делегации, а также высшие сановники КПСС и СССР после официальных встреч с советской интеллигенцией. Там с незапамятных времен, под самой лестницей, впритык к стене стоял здоровенный железный шкаф-сейф. Когда он был там поставлен, по чьему указу, зачем – никто не знал. Сейф никому не мешал, его даже не замечали.
И вот Шереметьев, будучи в жутко подавленном моральном состоянии, вдруг увидел заброшенный сейф. И возмутился! Он потребовал к себе коменданта корпуса и приказал немедленно вызвать специалиста, вскрыть сейф и наконец-то избавиться от него.
Мастера вызвали. Сейф вскрыли. Там лежали считавшиеся пропавшими ордена и медали (с удостоверениями к ним), принадлежавшие первому секретарю Союза писателей СССР А.А. Фадееву, а также подлинники дарственных Союзу писателей на дом Наташи Ростовой от Моссовета и Советского государства.
При вскрытии сейфа присутствовали несколько человек. Все буквально онемели при обнаружении такой находки. Пока кто-то не сказал:
– Ну вот, с Фадеевым разобрались. Теперь дело за масонскими тайниками Долгоруковых.
И вновь настало уже удивленное молчание.
Оригиналы дарственных за подписями М.И. Калинина и руководства Моссовета были представлены в суд. Дело МСПС выиграло. Через полгода очередные интриганы выжили Шереметьева с его должности, а дом Наташи Ростовой, частично распроданный новыми руководителями сообщества сторонним предпринимателям, всё еще остается официальной резиденцией писателей России и ряда других государств.

Памятник Л.Н. Толстому перед домом Ростовых
О масонских тайниках дома Ростовых стоит поговорить отдельно. Князья Долгоруковы купили только центральный корпус здания, которое сразу стало резиденцией московских масонов. Огромные крылья к нему пристроены по их воле и заказу. Как строили себе дома масоны, с какими обязательными тайниками, общеизвестно. В 1812 г. в усадьбе Долгоруковых разместился французский генералитет, а потому пожар её не затронул. В революции и Гражданскую войну дом Ростовых Бог миловал. Не пострадала усадьба и от бомбежек Великой Отечественной. Это одна их самых сохранившихся в эпохи катаклизмов территорий Москвы[12].
На предмет тайников дом Наташи Ростовой никогда не обследовался. Ходят разные слухи, кто его знает, какие неожиданности ждут исследователей в подвалах прославленного здания.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Петроград, Ленинград) поэтапно стал столицей могущественной Российской державы в 1712–1714 гг. и оставался таковой до 12 марта 1918 г. Неудивительно, что город оказался средоточием мировых политических интриг, тайн, мистики. Вспомним Евангелие от Марка: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу». К тайнам Санкт-Петербурга эти слова явно не относятся.
Предполагаемые масонские заговоры
При российском дворе никогда не утихали слухи, будто Екатерина II умерла не естественной смертью, а погибла в результате дворцового заговора. История эта носит мистический характер и уже более 200 лет циркулирует в мире профессиональных историков, хотя и не имеет под собою никакого документального подтверждения, за исключением мемуаров французского короля Карла X (1824–1830), который носил в те годы титул графа д’Артуа. Именно из записей француза историки узнали о страшном видении Екатерине II, случившемся за неделю до её кончины. Свидетелей у этих событий было относительно много.
Тем вечером императрица легла спать как обычно. В соседних апартаментах оставались бодрствовать дежурные фрейлины. Примерно через час Екатерина вышла из своей спальни и, не говоря никому ни слова, прошла в сторону тронного зала. Первоначально дамы были очень смущены, затем стали обсуждать случившуюся странность. Неожиданно двери спальни императрицы распахнулись – на пороге появилась сама Екатерина. Она сердито спросила, почему фрейлины разговаривают так громко? Они мешают ей заснуть! Испуганные дамы объяснили причину своего поведения. Екатерина усмехнулась и немедленно в сопровождении фрейлин и вызванных дежурных офицеров направилась в указанном направлении.
Когда возглавляемая императрицей группка вошла в тронный зал, они увидели жуткое зрелище: огромное помещение было освещено призрачным зелёным светом, а на троне у противоположной стены восседала сама Екатерина, одетая в привычный ночной халат, и явно рассматривала вошедших. Не узнать императрицу было невозможно – в старости она сильно растолстела, заплыла жиром, и найти в Петербурге другую женщину таких форм и объёмов было практически невозможно (известные нам портреты престарелой Екатерины II откровенно лгут). Едва увидев своего двойника, императрица страшно закричала и упала без чувств. Пока свита суетилась вокруг неё, видение исчезло, а вместе с ним пропал и зелёный свет.
Продолжение этой истории я слышал от старых ленинградских историков, которые ссылались на рассказ директора Эрмитажа в 1909–1918 гг. Дмитрия Ивановича Толстого (1860–1940). Пересказываю, как запомнил, но не называю имён, поскольку речь идёт о доверительных личных беседах.

Английская карикатура на смерть Екатерины II. 1796 г.
После второго раздела Речи Посполитой (1793) Екатерина II велела привезти в Петербург трон Станислава Понятовского[13] и сделать из него стульчак для отхожего места. Отверстие в стуле открывалось в комнату этажом ниже. В последние годы жизни, восседая на троне польского короля, обычно и справляла естественную нужду российская императрица. По официальной версии утром 5 (16) ноября 1796 г. на этом троне Екатерину II хватил апоплексический удар (инсульт), через сутки она умерла. Однако рассказывали и другое: будто на самом деле во время её пребывания на польском троне из нижней комнаты чья-то сильная опытная рука проткнула несчастную тонкой острой стальной пикой-иглой чуть ли не насквозь. Императрица мгновенно потеряла сознание и уже не пришла в себя, лишь изо рта её постоянно шла кровавая пена, и агония её более походила на агонию посаженного на кол человека, чем на жертву инсульта.
Екатерина была такой толстой, что шесть здоровенных мужчин с трудом дотащили её до опочивальни, но поднять на кровать так и не смогли, а уложили на полу на красный сафьяновый матрац (кровь на нём была не заметна!). И инсценировку «видения», и убийство приписывают заговору масонов и полагают, что наследник престола Павел Петрович, которого по исчезнувшему после кончины Екатерины II завещанию следовало отстранить от престола, был в курсе заговора.
Эта масонская история получила развитие благодаря мемуарам баронессы Генриетты Луизы фон Оберкирх, близкой подруги жены Павла I императрицы Марии Фёдоровны Старшей. Она записала рассказ Павла Петровича от 10 июля 1782 г. (даю в сокращении. – В.Е.).
«Куракин знает, что и мне было бы кой о чём порассказать…
Раз вечером, или, пожалуй, уже ночью, я, в сопровождении Куракина и двух слуг, шел по петербургским улицам. Мы провели вечер вместе у меня во дворце, за разговорами и табаком, и вздумали для освежения сделать прогулку инкогнито при лунном освещении. Погода была не холодна; это было в лучшую пору нашей весны… Разговор наш шёл не о религии и ни о чём-либо серьёзном, а напротив, был весёлаго свойства, и Куракин так и сыпал шутками насчёт встречных прохожих. Несколько впереди меня шёл слуга, другой шёл сзади Куракина, а Куракин следовал за мною в нескольких шагах позади. Лунный свет был так ярок, что при нём можно было читать письмо, и следовательно, тени были очень густы. При повороте в одну из улиц, вдруг вижу я в глубине подъезда высокую худую фигуру, завёрнутую в плащ в роде испанскаго, и в военной, надвинутой на глаза, шляпе. Он будто ждал кого-то. Только что я миновал его, он вышел и пошёл около меня с левой стороны, не говоря ни слова. Я не мог разглядеть ни одной черты его лица. Мне казалось, что ноги его, ступая на плиты тротуара, производят странный звук – точно как будто камень ударялся о камень. Я был изумлён, и охватившее меня чувство стало ещё сильнее, когда я почувствовал ледяной холод в моём левом боку, со стороны незнакомца. Я вздрогнул и, обратясь к Куракину, сказал:
– Судьба нам послала страннаго сопутника.
– Какого сопутника? – спросил Куракин.
– Господина, идущаго у меня слева, по шуму, производимому им.
Куракин раскрыл глаза в изумлении и заметил, что никого нет у меня с левой стороны.
– Как? Ты не видишь этого человека между мною и домовою стеною?
– Ваше высочество идёте возле самой стены и физически невозможно, чтобы кто-нибудь был между вами и ею.
Я протянул руку и точно ощупал камень. Но всё-таки незнакомец был тут и шёл со мною шаг в шаг, и звуки шагов его, как удары молота, раздавались по тротуару. Я посмотрел на него внимательнее прежняго, и под шляпой его блеснули глаза столь блестящие, что таких я не видал никогда ни прежде, ни после. Они смотрели прямо на меня и производили на меня какое-то околдовывающее действие.
– Ах! – сказал я Куракину. – Я не могу передать тебе, что я чувствую, но только во мне происходит что-то особенное.
Я дрожал, не от страха, но от холода. Я чувствовал, как что-то особенное проникало все мои члены, и мне казалось, что кровь замерзает в моих жилах. Вдруг из-под плаща, закрывавшего рот таинственнаго спутника, раздался глухой и грустный голос:
– Павел!
Я был во власти какой-то неведомой силы и механически отвечал:
– Что вам нужно?
– Павел! – сказал опять голос, на этот раз, впрочем, как-то сочувственно, но с ещё большим оттенком грусти. Я не мог сказать ни слова. Голос снова назвал меня по имени, и незнакомец остановился. Я чувствовал какую-то внутреннюю потребность сделать тоже.
– Павел! Бедный Павел! Бедный князь!
Я обратился к Куракину, который также остановился.
– Слышишь? – спросил я его.
– Ничего, – отвечал тот, – решительно ничего.
Что касается до меня, то этот голос и до сих пор ещё раздаётся в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие над собою и спросил незнакомца – кто он и что ему нужно?
– Кто я? Бедный Павел! Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе и кто хочет, чтобы ты особенно не привязывался к этому миру, потому что ты долго не останешься в нём. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Бойся укора совести; для благородной души нет более чувствительного наказания.
Он пошёл снова, глядя на меня всё тем же проницательным взором. И как я остановился, когда остановился он, так и теперь я почувствовал необходимость пойти за ним. Он не говорил, и я не чувствовал особеннаго желания обратиться к нему с речью. Я шёл за ним, потому что он теперь шёл впереди. Это продолжалось более часу. Где мы шли, я не знал…
Наконец пришли мы к большой площади, между мостом чрез Неву и зданием Сената. Он прямо пошёл к одному как бы заранее отмеченному месту площади; я, конечно, следовал за ним – и затем остановился.
– Прощай, Павел! – сказал он. – Ты ещё увидишь меня опять, здесь и кой-где ещё.
При этом шляпа его поднялась как бы сама собою, и глазам моим представился орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка моего прадеда Петра Великого. Когда я пришёл в себя от страха и удивления, его уже не было передо мною.
На этом самом месте императрица возводит монумент, который скоро будет удивлением всей Европы. Это конная статуя из гранита, представляющая царя Петра и помещённая на скале. Не я советовал моей матери избирать это место, выбранное, или скорее угаданное, призраком. И я не знаю, как описать чувство, охватившее меня, когда я впервыя увидал эту статую. Я боюсь мысли, что могу бояться, что бы ни говорил кн. Куракин, уверяющий, что всё это было не более как сон, виденный мною во время прогулки по улицам. Малейшая подробность этого видения памятна мне, и я по-прежнему утверждаю, что это было видение и всё связанное с ним представляется мне также ясно, как бы это случилось вчера. Придя домой, я нашёл, что мой левый бок положительно окаменел от холода, и я почувствовал некоторую теплоту лишь несколько часов спустя, хотя тотчас же лёг в тёплую постель и закрылся как можно теплее.
Надеюсь, что вам понравилась моя история… Это значит, что я умру в молодых летах».
Памятник Петру I на Сенатской площади был открыт 18 августа 1782 г., в год данного рассказа цесаревича баронессе.
Воспитатель наследника престола Никита Иванович Панин был масоном. Вовлечь в ложу будущего императора Павла Петровича он не успел, был уволен Екатериной II именно за масонство. Но вот другого своего воспитанника и ближайшего друга цессаревича князя Александра Борисовича Куракина он с младых ногтей приобщил к масонству. Так что устроить инсценировку с Петром I для Павла масоны могли без особых проблем. Из этого сторонники версии убийства Екатерины II делают вывод, будто заговор масонов против неё зародился ещё в начале 1780‑х гг. Впрочем, в ночь на 24 марта 1801 г. императора Павла I убили в Михайловском замке заговорщики, многие из которых тоже были масонами.
Наконец, результатом самого неисследованного, самого таинственного масонского заговора стало восстание декабристов 14 (26) декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. Мы о нём мало что знаем, поскольку следственная комиссия, возглавлявшаяся самим императором Николаем I, вела параллельно сразу два следственных дела. Никто не верил в самостоятельность восставших офицеров. Великий князь Константин Павлович так и написал брату-императору: «…внимание моё остановилось на одном замечательном обстоятельстве, которое поразило мой ум: список арестованных содержит только имена лиц до того неизвестных, до того незначительных самих по себе и по тому влиянию, которое они могут иметь, что я вижу в них только передовых охотников и застрельщиков шайки, заправилы которой остались сокрытыми до времени, чтобы по этому событию судить о своей силе и о том, на что они могут рассчитывать. Они виноваты в качестве застрельщиков-охотников, и по отношению к ним не может быть снисхождения, так как в подобных вещах нельзя допускать увлечения; но вместе с тем нужно разыскивать подстрекателей и руководителей и непременно найти их на основании признания арестованных…»
Когда работа комиссии была завершена, по приказу Николая все документы второго, основного следствия – по поиску «заправил» – были уничтожены. Остатки, даже следы его были окончательно ликвидированы после 1917 г., поскольку советская власть пыталась сотворить в народе культ декабристов.
Центральной фигурой заговора был Кондратий Фёдорович Рылеев. Его обычно представляют рафинированным, утончённым поэтом-патриотом, страдателем за судьбы крепостного люда. Однако вся его жизнь была связана с армией. Согласно принятой версии, в шесть лет Кондратия отдали в Кадетский корпус. По окончании его в чине прапорщика молодой человек был направлен в действующую армию, в артиллерию. Служба его проходила в Германии, Швейцарии и во Франции, где Рылеев проникся революционными идеями (и, возможно, вступил в масонскую ложу). Почти сразу по возвращении в Россию для дальнейшего прохождения службы он был определён в глухую провинцию – в Воронежскую губернию. В 1818 г. вышел в отставку, а в 1820 г. мало кому известный армейский подпоручик, почти разоренный Рылеев, сразу после женитьбы на дочери мелкого провинциального помещика Н.М. Тевяшовой, перебрался из провинции в Санкт-Петербург. Здесь он был сразу же дружески принят в литературных кругах. Осенью того же года в 10-й книжке «Невского зрителя» была опубликована направленная против Аракчеева сатира «К временщику», которая принесла поэту всероссийскую славу и дала ему значительный вес в обществе. В целях получения большей информации о политическом состоянии в высших сферах в том же 1820 г. он вступил в масонскую ложу «Пламенеющая звезда», которую через год покинул за ненадобностью.
Камень преткновения здесь – масонская ложа. «Пламенеющая звезда» – одна из самых закрытых и малоизвестных науке масонских лож Санкт-Петербурга, входивших в «Астрею» (союз российских масонских лож). Братьями в ней состояли только аристократы иностранного происхождения, преимущественно немцы. На заседаниях ложи разговаривать можно было только по-немецки. Приехавший из провинции Рылеев почти сразу по приезде стал первым и единственным русским братом ложи и получил там имя Конрад. Более того, в год вступления он стал мастером этой ложи! Согласно общепринятому мировому ритуалу, каждый масон должен пройти три степени: ученика, подмастерья и мастера, следовательно, первые две ступени были пройдены Рылеевым в какой-то иной ложе, имевшей родственные связи либо с «Пламенеющей звездой», либо с «Астреей», и каким-то образом связанной с зарубежным масонством. В противном случае не понятно, почему именно никому не известному провинциалу Кондратию Фёдоровичу было сделано столь значительное в масонском мире исключение со степенью и почему он был принят именно в ложу с национальным и языковым ограничением. Ведь в столице имелось несколько масонских лож, в которых национальность не имела значения. Более того, когда «Пламенеющая звезда» закрылась[14], ещё раньше вышедший из неё Рылеев получил на хранение все документы ложи! Более того, накануне восстания декабристов, в ночь на 14 декабря 1825 г. Рылеев собственноручно сжёг все до последнего клочка документы ложи «Пламенеющая звезда» как наиболее опасные (отчего о деятельности ложи наука сегодня мало что знает), но сохранил почти все имевшиеся у него документы Северного тайного общества, тем самым подставив под удар многих случайных участников заседаний декабристов!!! Всё это общеизвестные и не раз упоминавшиеся в литературе и в источниках факты, которые официальная наука пытается сгладить, заретушировать, представить ничего не значащей случайностью, не обсуждать или просто не замечать. Но факты говорят сами за себя, нет смысла даже их комментировать, что-то додумывать и навязывать читателю.
Любопытно, что во время важной организационной встречи масона К.Ф. Рылеева с масоном П.И. Пестелем в апреле 1824 г. именно Рылеев настаивал на организации власти в России после свержения Романовых по американскому образцу. Как известно, в 1775–1783 гг. в Северной Америке шла война английских колоний за независимость от метрополии, которую часто историки называют масонской революцией в США.
Пестель с Рылеевым соглашался, но настаивал на том, что одновременно в стране следовало установить личную диктатуру по типу диктатуры Наполеона. Диктатором он, безусловно, полагал себя. Рылеев был категорически против каких-либо отступлений от американского образца. Как известно, США были образованы масонами по разработанным масонами принципам.
Сам Кондратий Федорович с весны 1824 г. служил правителем дел канцелярии Российско-Американской компании – без соответствующей протекции на это очень доходное место устроиться было невозможно. Видимо, масоны же поспособствовали избранию Рылеева с 30 декабря 1824 г. членом Цензурного комитета, где он вплоть до ареста исполнял обязанности цензора поэзии.
В 1823 г. поэт вступил в Северное тайное общество, а в марте 1825 г. был избран в его руководящий орган – Думу. Еще до избрания в Думу Кондратий Федорович фактически идейно возглавил движение будущих декабристов и считался «диктатором» общества вплоть до декабря 1825 г., когда сложил с себя диктаторские полномочия в пользу С.Н. Трубецкого. Именно на него легла забота о подготовке будущих убийц царской фамилии, каковыми были назначены А.И. Якубович и П.Г. Каховский. Причём вроде бы небогатый, почти бедный Рылеев финансировал (!) обоих подопечных.
Одним словом, масонский след в деле декабристов столь очевиден, что дополнительных доказательств не требует.
Невозможно оспорить справедливость казни пяти декабристов – они взошли на эшафот не по политическим, но сугубо уголовным обвинениям, если отнести к уголовным подготовку государственного переворота, убийства сторонних людей, подстрекательство к мятежу обманным путём и т. д.
Частной, но многих смущающей загадкой стала тайна захоронения трупов казнённых – останки их не найдены по сей день, хотя при советской власти поискам могил декабристов уделялось большое внимание. Версий несколько. Самая необычная из всех была изложена прапорщиком Иваном Васильевичем Шервудом-Верным, который в своё время выдал Александру I Южное общество будущих декабристов. В официальном заявлении в Третье отделение[15] он сообщил, что некто «выкрал тела казнённых и перезахоронил в другом месте, а их черепа держит у себя дома». Масонские игры продолжились.
Набережная Мойки, 12
Однажды меня пригласили на встречу в городское Общество любителей книги. Тему беседы заранее не обговаривали. Вот я и предложил собравшимся побеседовать о неясностях в дуэли А.С. Пушкина и Ж. Дантеса. Сразу же поднялся руководитель Общества и с пафосом прочитал стихотворение Л.А. Филатова «Дантес» со знаменитым рефреном: «Он Пушкина убил». Относительно стихосложения произведение отличное, относительно понимания сути случившегося – поверхностное.
В тот раз я ответил стихотворением, написанным самим Пушкиным на иллюстрацию к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе» за 1829 г.
Пупок чернеет сквозь рубашку,Наружу <титька> – милый вид!Татьяна мнёт в руке бумажку,Зане живот у ней болит:Она затем поутру всталаПри бледных месяца лучахИ на <подтирку> изорвалаКонечно «Невский альманах».Пушкин, бесспорно, прежде всего был человеком, одарённым свыше гением творить высокую поэзию. Но гений этот не лишал поэта всего того, что свойственно человеческому организму и быту. В том числе и то, что описал поэт в приведённой сатире, он испытал сам многократно, ибо был из плоти, а не соткан из сугубо возвышенных чувств. Стихосложение свойственно человеку-поэту, земная жизнь – человеку-обывателю. Они едины и неразрывны. Дуэли были присущи земной жизни дворян-обывателей XVIII–XIX вв. И дуэль Пушкина с Дантесом не исключение. Поэтому при рассмотрении трагических событий гибели поэта необходимо рассматривать исключительно их бытовую сторону. А она переворачивает все представления о роковой дуэли, навязываемые нам пушкиноведением в течение 200 лет.
Со 2 октября 1836 г. семья Пушкиных арендовала первый этаж дома княгини С.Г. Волконской по адресу Набережная Мойки, дом 12 – в одном квартале от Зимнего дворца. Всего 11 комнат, из которых 2 приходились на кухню и кладовку. В остальных 9 комнатах проживали Пушкин, его жена Наталья Николаевна, их четверо детей (старшей Маше шёл пятый год, младшей Наташе было восемь месяцев). Но главное, с четой Пушкиных проживали старшие сёстры Натальи Николаевны – Екатерина и Александра Гончаровы.
Слуг было 15 человек: две няни, кормилица, камердинер, четыре горничных, три лакея, повар, прачка, полотёр и личный слуга Александра Сергеевича старик Никита Козлов.
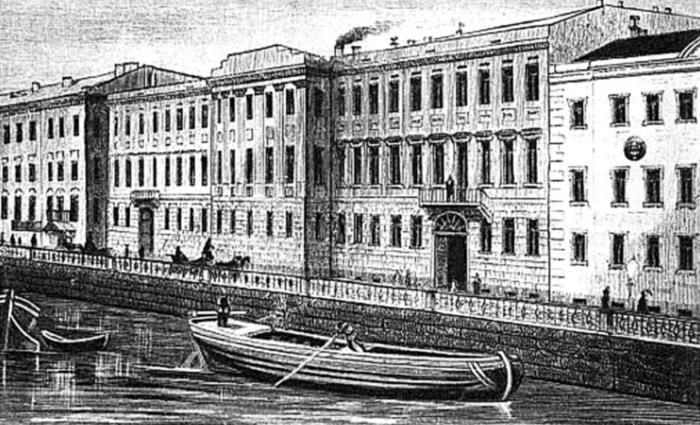
Дом А.С. Пушкина на набережной Мойки
При этом необходимо учесть, что Пушкин был категорически против приглашения в его дом сестёр жены. Но Наталья Николаевна настояла (!) на этом. Столичный аристократ Александр Сергеевич, при всей видимой его строгости, явно комплексовал перед юной супругой-провинциалкой, поскольку в солидном для того времени возрасте не мог достойно обеспечить жене великосветскую жизнь. Семье оказывала постоянную денежную помощь тётка сестёр по материнской линии горбунья Наталья Кирилловна Загряжская, богатейшая старшая дочь самого князя К.Г. Разумовского, фрейлина Екатерины II и муза поэта графа А.П. Шувалова. Для Пушкина это было унизительно, но приходилось терпеть.
По факту рождения поэт входил в высшее аристократическое общество империи, но при этом не имел ни титула, ни чина. Сразу после возвращения Пушкина из ссылки, Николай I присвоил ему звание придворного историографа. Под влиянием В.А. Жуковского, который принимал живое участие в судьбе Пушкина, в 1831 г. Александр Сергеевич создал стихотворение «Клеветникам России». С тех пор против поэта ополчилась вся либеральная свора не только в России, но и в Европе. Расхожим стало мнение вроде: «Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту» (Н.А. Мельгунов).
31 декабря 1833 г. Николай I пожаловал Александра Сергеевича из придворного историографа в камер-юнкеры. С подачи самого Пушкина считается, что сделано это было ради Натальи Николаевны, чтобы она обязана была присутствовать на придворных балах в Аничковом дворце. По сему поводу принято возмущаться и рассматривать чин камер-юнкера насмешкой. Это и в самом деле было младшее придворное звание, но ПРИДВОРНОЕ звание! В те годы на всю империю имелся всего 161 камер-юнкер, из которых старше и гораздо старше Пушкина по возрасту были 23 человека (другое дело, что само звание было им дано в более молодом, чем у Пушкина, возрасте). В Петербурге жили примерно 80 камер-юнкеров, очень разных по ранжиру. Официально Пушкин числился титулярным советником – весьма низкий чин IX класса из 14‑ти по Табели о рангах, поэтому камер-юнкерство его значительно возвысило. Все по тому же ранжиру в придворных званиях далее сразу следовал камергер (соответственно, современный контр-адмирал или генерал-майор сухопутных войск). Император заказал Александру Сергеевичу написание истории Петра Великого. Такой труд явно мог послужить поводом для присвоения звания камергера и возведения в графское или даже княжеское достоинство. Всё было впереди, но поэт полагал себя униженным и в своём придворном звании видел заслугу красавицы супруги.

