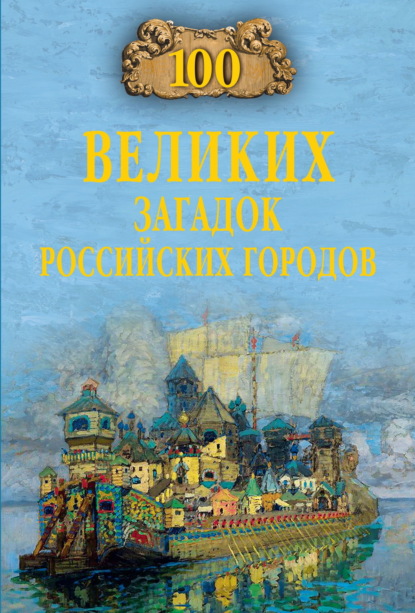
Полная версия:
100 великих загадок российских городов
Нехорошая квартира и дом на Остоженке
События эти были хорошо известны в мирке московских писателей в 1990‑х гг. Сегодня о них помнят самое большее 3–4 человека.
Немного столичной географии. Двери особняка, в котором размещается Московская писательская организация, выходят в Скарятинский переулок. Если повернуть налево, переулок упирается в Государственный дом радиовещания и звукозаписи на Малой Никитской улице. Если опять повернуть налево и пройти полквартала в сторону Садовой Кудринской, то выходим на Вспольный переулок, в самом начале которого стоит особняк Лаврентия Павловича Берии. Говорят, что под особняком вырыты огромные подвалы, которые залегают подо всей просторной Кудринской площадью и тянутся прямо к расположенному рядом с нею комплексу зданий американского посольства.

Дом на пересечении Остоженки и Соймоновского проезда
Первый же перпендикулярный Вспольному Гранатный переулок известен домом пушкиноведа и театрального режиссера Киры Павловны Викторовой[8]. В течение многих лет являлись ей там ночами видения самого Александра Сергеевича Пушкина и его возлюбленной императрицы Елизаветы Алексеевны, а позднее и Николая Васильевича Гоголя. Любопытно то, что видения эти рассказывали исследовательнице о себе сведения, которые впоследствии находили документальные подтверждения. Рядом с домом Киры Павловны приютился дивный по красоте особняк Дома архитекторов.
А напротив, в отдалении, но прямо на Вспольном переулке стоит дом Галины Брежневой. Как и большинство суперэлитных домов конца 1970‑х гг., выстроен он из светло-розового кирпича, а выделяется тем, что посередине его идёт пояс в полтора раз более высоких окон, чем на прочих этажах. Это этаж-квартира лично Галины Леонидовны и её супруга генерал-полковника милиции Ю.М. Чурбанова. Потом квартира эта перешла в собственность семейству председателя Верховного Совета СССР Р.И. Хасбулатова. Кто в ней живёт сейчас, не знаю.
Почти напротив дома Галины Брежневой выходят во Вспольный переулок тылы дома 302‑бис по Большой Садовой, того самого, где по воле М.А. Булгакова поселился на пятом этаже (квартира № 50) Воланд со своей свитой. В этой же квартире якобы проходил бал сатаны из романа «Мастер и Маргарита». Рассказ мой идет о 1990‑х гг., музея Булгакова тогда еще не было. Любопытствующий народ ходил к этому дому стихийно.
Заканчивается Вспольный переулок выходом на Патриаршие пруды, прямо к мемориальному комплексу баснописца И.А. Крылова. Вечерами в хорошую погоду я часто прогуливался по этому маршруту к станции метро «Маяковская». Однажды решил отдохнуть у воды и присел на скамеечку. На соседней скамейке сидела небольшая компания, предположительно студентов. Молодой человек рассказывал, как его сняли здесь же на пленочный фотоаппарат, а когда проявили пленку и сделали фотографии, оказалось, что его на кадре заслонило большое воронье крыло.
– Это был Воланд! – восторженно вещал рассказчик. – Со мною общался сам Воланд!
И все смеялись и даже поздравляли его с такой честью.
Я не выдержал и спросил:
– Извините, молодые люди. Позвольте узнать. Во все времена и везде люди приходили в ужас, если им доводилось общаться с нечистой силой. Чему же радуетесь вы?
Мне не ответили. На меня странно посмотрели, повскакивали и молча удалились быстрым шагом.
Вскоре после этого случая пригласил меня пожить у него Михаил Николаевич Иванов – родной и любимый внук бывшего председателя Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина. Он был одиноким человеком, жил с матерью. Мать умерла, и осиротевшему старичку потребовалась поддержка. Я с готовностью согласился. В те дни у нас шла подготовка к изданию «Новой Игрушечки. Русского журнала для детей», и я много работал в Ленинской библиотеке – с 9.00 утра до 21.00 вечера. По окончании рабочего дня, я выходил из библиотеки, шел мимо станции метро «Боровицкая» и дома Баженова к Волхонке. Проходил перед центральным входом Музея им. А.С. Пушкина к Институту русского языка им. В.В. Виноградова. Напротив института, по диагонали через площадь Пречистенские Ворота стоит дом, где жил Михаил Николаевич. Окнами он выходит на Соймоновский проезд, но относится к Остоженке.
Квартира находится на верхнем этаже. Если смотреть от Института русского языка, окна квартиры ближе всех прочих расположены к нынешнему храму Христа Спасителя. Правда, тогда храма не было, а в нижнем конце готовился к сносу бассейн «Москва». Газета «Литературная Россия» и ее главный редактор Эрнст (Эрик) Сафонов только начинали сбор народных средств на восстановление храма и даже не знали, что их оттеснят от благой идеи и вышвырнут прочь торгаши Ю.М. Лужкова.
В одной из трех комнат жил сам Михаил Николаевич; в другой, самой маленькой, окнами выходившей в колодец внутреннего двора, обосновался я; а третью комнату хозяин сдавал под офис «дипломированной» колдунье, которая вечерами снимала сглаз, гадала, привораживала возлюбленных и т. д. Тогда это было весьма модно и прибыльно. Чаевничая компанией, мы искренне веселились, слушая ее рассказы о клиентах.
На работу в Союз я забегал тогда редко. Но в одно из таких посещений директор издательства привел ко мне автора и попросил поработать с его книгой. Автор представился Александром Чахой. Это псевдоним. В жизни он был Александром Карпенко, одним из ведущих в нашей стране специалистов в области логического анализа, профессором МГУ. Чаха болел известной на Руси болезнью: жил жизнью признанного, всеми уважаемого интеллектуала, но в какой-то момент срывался и запивал. Тогда он превращался в чудовище, одно из тех, которые мы видели на улицах Москвы в 1990‑х гг., – воняющее мочой и обслюнявленное, в каких-то жутких изодранных обмотках, матерящееся и т. д. Профессор был известной личностью в московском бомжатнике и весьма почитался столичными любителями альтернативной жизни. Причем, по утверждению Чахи, становиться таковым его принуждал являвшийся ему из потустороннего мира некий Белый кардинал, сожженный инквизицией не то в XIII, не то в XIV в. Мало того, в каждое явление кардинал надиктовывал Чахе богохульные и алкогольные поэзы. Пришло время, и монстр потребовал, чтобы раб опубликовал их. Карпенко был авторитетным ученым, академия наук ежегодно выделяла ему валюту на приобретение за рубежом необходимой для работы литературы. Он договорился со своим руководством и вознамерился на валютную дотацию опубликовать творения Белого кардинала.
Я взял книгу[9] в работу, назначил ей художника, но серьезно заболел и выбыл из производственного процесса на полгода. Так что к изданию этому отношения никакого не имел.
Но однажды посреди ночи меня будто кто-то толкнул в бок. Я проснулся в оцепенении: не мог ни пошевелить рукой или ногой, ни произнести хотя бы слово. И увидел, как сквозь закрытую дверь прошла прозрачная белая тень человека в саване и стала медленно ко мне приближаться. Подойдя почти вплотную, видение стало склоняться ко мне, и под капюшоном я увидел вместо лица череп. Что произошло в то мгновение, не знаю, но у меня откуда-то взялись силы и я громко и чётко произнёс:
– Пошёл отсюда на… или сейчас как дам в морду!
Вы видели когда-нибудь, как улыбается череп? Я увидел. Одновременно пришелец отпрянул от меня и так же медленно ушел к двери и просочился сквозь нее.
Как любой нормальный человек, я решил, что это больной сон. Но на следующую ночь история повторилась. Призрак прошел сквозь закрытую дверь и подошел ко мне, а я прогнал его теми же словами. Зато я по-настоящему испугался за свой разум. Утром обратился за помощью к писателю-рассказчику Евгению Евгеньевичу Чернову. Он был неофитом и, как все неофиты, весьма усердным в общении с церковниками.
На следующее утро Чернов отвел меня к протоиерею отцу Димитрию (Дудко), окормлявшему российских писателей. Мы провели вместе целый день, беседовали, ходили слушать соловья, свившего гнездо в густых зарослях кустарника, выросшего на пятачке оживленной автомобильной развязки. При расставании отец Димитрий сказал:
– Я не экзорцист и помочь вам не могу. К тому же вы с ним заговорили, теперь он от вас не отвяжется. Просто не обращайте на него внимания, В таком случае он ничего скверного сделать вам не сможет.
Так я и поступил. Насколько я теперь понимаю, ему нужен был не я. Он уже знал, что будет восстановлен храм Христа Спасителя. И ему нужен был проводник, кто ввел бы его в квартиру Михаила Николаевича. Ко мне он приходит по-прежнему, но только накануне каких-либо несчастий в моей семье. Всякий раз, когда я в оцепенении просыпаюсь среди ночи и уже знаю, что сейчас он просочится сквозь закрытые двери моей спальни, я понимаю, что либо скоро умрет кто-то из моих близких, либо случится ужасное, коверкающее мою судьбу несчастье.
Недавно я был в гостях у художника, оформлявшего книгу Чахи. Зашел разговор о событиях тех дней. Художник признался:
– Не хотел тревожить вас лишний раз. Но Чаха часто приходил ко мне, консультировал при работе над рисунками. Как-то раз он признался, что не просто так пришел в ваше издательство. Заставляя раба издать его вирши, Белый кардинал назвал ему ваши имя, отчество, фамилию, адрес издательства и велел, чтобы готовили книгу к изданию именно вы.
Вот так и получилось, что восторженные поклонники сказок Булгакова бегают, раззявя рты, к дому на Садовой, а настоящий потусторонний пришелец из инфернального мира обосновался нынче на Остоженке, рядышком с храмом Христа Спасителя.
Имена на карте метрополитена
Названия улиц, площадей, станций метро для обывателя имеют мало значения. Ну, увековечили имя какого-то исторического персонажа, запечатлели на карте важное историческое событие. Нередко ни о человеке таком, ни о событии таком люди даже не помнят. Есть такое название, ну и бог с ним.
Мне довелось столкнуться напрямую с «демократическими» переименованиями станций метро в Москве. С того времени я стал относиться к этой проблеме гораздо жестче и взыскательнее, поскольку знать и понимать заднюю мысль дававших новые названия чему-либо оказывается имеет весьма существенное значение в нашей жизни. Раскрою эту маленькую тайну.
«Демократические» преобразования в московском метро начались с переименования в августе 1986 г. станции «Лермонтовская» в станцию «Красные Ворота». Это было самое начало развала СССР, первый этап т. н. перестройки, о чем никто из нас, не посвященных, еще понятия не имел. Я спросил тогда, зачем они это делают? Ведь станция выстроена на том самом месте, где стоял дом, в котором родился величайший русский поэт. Последовал ответ:
– Лермонтов для всех, а Красные Ворота – только для москвичей. Это наш город. Нечего чужакам лезть в наш дом. Страна сама по себе, а Москва сама по себе. Если она столица, то это не значит, что принадлежит всем. Москва только для москвичей!
Так начинался развал великой страны. И станция метро «Красные Ворота» для меня навсегда останется памятником и символом раздербанивания единого тела нашей страны на местнические ошмётки.

В 1989 году станция метро «Ждановская» была переименована в «Выхино»
В 2013 г. на окраине Москвы, в рабочем районе, была открыта новая станция метро «Лермонтовский проспект». Можно ли признать это событие скрытой попыткой столичных властей загладить свою вину перед памятью великого поэта и российским народом? Сомневаюсь.
13 января 1989 г. станция «Ждановская» была переименована в «Выхино». Аргументация для любого интеллигента железная и неоспоримая: поначалу речь Жданова, а затем Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 г. Оказалось, что Андрей Александрович был заправилой в ужасной травле гениальной поэтессы Анны Ахматовой и замечательного писателя Михаила Зощенко. Правда, впоследствии выяснилось, что этой речью и этим постановлением Жданов защитил писателей от настоящих репрессий и лагерей, которые готовили им в ходе борьбы за власть между группировками в правящей элите СССР. В действительности перестройщики мстили второму человеку в партии после Сталина, одному из идеологов русского ренессанса 1930‑х гг. А также тому, чья преждевременная смерть дала толчок раскручиванию «дела врачей». Темная история.
В разгар перестройки и нараставшего буйства толпы, возбуждённой клеветническими статьями о большевиках, сочинявшимися мастерами яковлевской перестроечной периодики, в 1990 г. в столице начались памятникопад и переименования станций метро. Мне довелось видеть, как валили памятники Я.М. Свердлову возле станции метро «Площадь Свердлова», М.И. Калинину в начале Калининского проспекта и, наконец, Ф.Э. Дзержинскому на Лубянке. 5 ноября 1990 г. всем скопом переименовали сразу несколько станций метро – «Кировскую», «Дзержинскую», «Горьковскую», «Калининскую», «Площадь Свердлова», «Ленино», «Проспект Маркса», «Площадь Ногина».
В тот же день была переименована станция метро «Щербаковская» в станцию «Алексеевская». Это событие стоит особняком. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), де факто второй человек в партии и правительстве и предполагавшийся преемник Сталина, генерал-полковник Александр Сергеевич Щербаков умер 10 мая 1945 г. Зная о его скорой кончине, к смертному одру умиравшего пришёл И.В. Сталин в полном воинском обмундировании в сопровождении его маршалов. Прощаясь с соратником, Иосиф Виссарионович сказал:
– Вы победили в своей войне!
Основатель и бессменный председатель Совинформбюро, Щербаков возглавил борьбу его ведомства против ведомства Йозефа Геббельса. За победу над Геббельсом почтили Сталин и боевые маршалы Александра Сергеевича. Нынче много говорят и пишут о Юрии Борисовиче Левитане, устанавливают ему памятники, а ведь он всего лишь был одним из рядовых работников в организации Щербакова и зачитывал чужие тексты, выверенные и одобренные его начальством. А вот имя человека, глазами которого мы сегодня смотрим на Великую Отечественную войну, помнят единицы. Александр Сергеевич был главным идеологом всех событий самой ужасной трагедии в жизни нашего Отечества. И он организовывал и руководил всей системой пропаганды и оповещения гражданского населения СССР.
Однако Щербаков был коммунистом, одним из руководителей сталинских большевиков. Ненависть к нему новых демократически властей можно было бы понять, если бы… Если бы с 1938 по 1945 г. Александр Сергеевич не являлся первым секретарём Московского обкома партии. Именно он возглавил грандиозную реконструкцию столицы, а с началом войны – оборону Москвы! Весь мир признавал, что Москва была тогда самым защищённым городом на планете. Щербаков железной рукой решительно пресек начинавшуюся было панику при подходе фашистов к столице. Прежде всего, он перекрыл все пути бегства для партийных и государственных чиновников. Возможно, это ему и простили бы. Но именно Щербаков на заседании Государственного комитета обороны (ГКО) выступил с инициативой перекрыть пути выдачи по блату брони от фронта как особо ценных кадров молодежи. Этой лазейкой пользовались прежде всего дети интеллигентов, и за такую инициативу ненависть к Щербакову не исчерпалась по сей день.
Но главное, Александру Сергеевичу завидовали все члены Политбюро, а больше всех Никита Хрущёв. Когда он пришёл к власти, правительство отказалось от установления памятника этому выдающемуся человеку, переименовали всё, что было названо его именем, по стране стали распространяться грязные слухи о нем. Уже при Брежневе в июне 1966 г. имя Щербакова дали станции московского метро. Она как бы стала единственным в стране памятником, данью уважения к памяти председателя Совинформбюро, победителя Геббельса, организатора самой могучей обороны мировой столицы.
Когда я спросил, почему «Щербаковскую» переименовали в «Алексеевскую», мне ответили:
– Каков народ, таковы и его герои.
Уважаемый московский купец, городской голова Москвы Николай Александрович Алексеев был выдающимся благотворителем города. В частности, на его деньги и по его инициативе построили психиатрическую больницу № 1, т. н. «Канатчикову дачу».
Забавно получилось: имя Геббельса знает сегодня каждый подросток в бывшем СССР, имя Щербакова предано полному забвению. В Москве установлены три памятника Владимиру Высоцкому, два памятника Юрию Никулину, памятники Фаине Раневской установлены в нескольких городах страны. Единственный памятник генерал-полковнику А.С. Щербакову был стерт с лица земли решением демократических властей Московского метрополитена.
Тайна Ближней дачи
Из народных преданий:
«Однажды, отчитывая сына Василия за очередную выходку, Сталин воскликнул:
– Ты думаешь, что ты – Сталин? Ты думаешь, я – Сталин? Нет, это он – Сталин!
И показал при этом на свой портрет».
В 1990-е гг. в Московской писательской организации часто бывала литературный критик Ирина Михайловна Шевелёва. Женщина очень добрая, она вечно о ком-нибудь хлопотала. Дело дошло даже до того, что стала выпрашивать гроши у всевозможных предпринимателей и выпускать на эти деньги серию брошюр, восхвалявших малоизвестных московских поэтов. Собралась целая библиотека. Так в ельцинское безвременье Шевелёва по мере своих сил поддерживала в талантливых людях творческий дух.
Однажды, кажется в 1997 г., она вошла в мой кабинет и заговорщицки сообщила:
– Виктор Николаевич! С вами хочет переговорить одни дама.
– Так пусть разговаривает.
– Ей очень необходима ваша помощь.
– Я не Господь Бог, но если смогу, помогу.
Ирина Михайловна выскочила из комнаты и через минуту в кабинет вошла Галина Яковлевна Джугашвили. Дочь Якова Иосифовича Джугашвили и внучка Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы все знали её в лицо, поскольку эта высокоодарённая литературным талантом женщина только вступила в Российский союз писателей, и её показывали нам издали как некую диковинку. Пришла она с семейной проблемой, частично решить её действительно мог тогда только я, но распространяться об этом нет смысла. Короче, мы подружились, и я сал бывать у неё дома на Лубянке, сразу за Политехническим музеем.

Ближняя дача И.В. Сталина в Кунцево
Как и всё её семейство, Галина Яковлевна была неразговорчивой и сдержанной на язык. Каково же было мое удивление, когда однажды она сорвалась и воскликнула:
– Эти люди еще поплатятся за всю ту клевету, что возводят на деда! Жестоко поплатятся.
И в самом деле, прожив благодаря большевикам сорок лет в мире и спокойствии, мы позволили развалиться СССР, и теперь втянуты в нескончаемую череду войн, которые с каждым разом становятся все масштабнее и кровавее.
Но в тот раз Галина Яковлевна после резкой тирады прочитала наизусть длинную молитву. Какую, не знаю, я в этом не сведущ. Заметив мой насмешливый взгляд, она строго сказала:
– Не смотрите на меня как на неофитку, мне далеко за шестьдесят, но крещена я в церкви в трёхлетнем возрасте. Сразу после того, как дед забрал меня от матери, и я поселилась на Ближней даче в Кунцево.
И Галина Яковлевна рассказала совершенно не известную мне историю.
Сразу после того как стало известно о гибели Якова Иосифовича в фашистском плену, Сталин приказал забрать его маленькую дочь у матери и взял на себя её воспитание. Так они фактически и жили вдвоем до его кончины. Сын Василий и дочь Светлана были уже взрослыми, и у них была своя жизнь.
Присматривала за Галей домоправительница Ближней дачи. Когда дом только построили и пришло время в него вселяться, Сталин приказал подобрать для присмотра за хозяйством не отдельных людей, а семью. Помимо верности главным критерием он назвал искреннюю веру в Бога и воцерковлённость. Были ли члены семьи связаны со спецслужбами, Галина Яковлевна не знала и никогда не интересовалась. Наверняка были, но для девочки они стали её настоящей любящей семьей. Так же относился к этим людям и Иосиф Виссарионович.
В первую же неделю пребывания девочки в Кунцево няня отвела её в церковь и крестила. Без разрешения Иосифа Виссарионовича вряд ли она посмела бы это сделать.
На Ближней даче для семейства обслуги была выделена особая молельная комната с небольшим иконостасом. Галина никогда не видела, чтобы туда заходил Сталин. Он вообще старательно обходил стороной всё, что связано с религией в его доме. Но Галю с детства учили молитвам и церковной истории. Строго соблюдали посты и отмечали церковные праздники.
Эта история поставила меня перед вопросом: так кем же был настоящий Сталин – человеком или портретом на стенах чиновных кабинетов? Или человеком, который строго соблюдал обязанности портрета?
А что касается антицерковного террора, якобы развязанного и поощрявшегося Иосифом Виссарионовичем, то не он был его инициатором. Да и церковники во многом сами спровоцировали власть на их преследование. Не столько против церкви, сколько против контрреволюции был направлен террор. Но, как это бывает в таких ситуациях, истерички и природные негодяи помимо чьей-либо воли превратили диктатуру пролетариата в кровавую вакханалию, не везде, но в ряде мест – точно. Любые обвинения настоящих большевиков в трагедии истинно порядочных верующих беспочвенны и преисполнены бесчестной предвзятостью.
Дом Наташи Ростовой
С 1950‑х гг. в Москве располагались целых три писательские структуры. Главным был Союз писателей СССР (Большой союз), организованный в 1934 г. под руководством А.С. Щербакова при поддержке А.М. Горького; на втором месте стоял Союз писателей РСФСР, учреждённый в 1958 г. в результате длительных хлопот Л.С. Соболева и С.В. Михалкова; и сформированная в 1954 г. Московская организация Союза писателей СССР.
Когда учреждался Большой Союз, встал вопрос о его резиденции. С начала 1920‑х гг. всевозможные писательские объединения столицы базировались в комнатах великолепной усадьбы в центре Москвы по адресу ул. Поварская, д. 52, ещё с XIX в. именовавшейся домом Ростовых или конкретнее – домом Наташи Ростовой. Руководство СССР и Моссовет без колебаний передали усадьбу в вечную собственность Союзу писателей СССР.
В действительности центральный особняк, выстроенный в 1756 г. по заказу ничем не примечательного дворянина Ивана Ивановича Воронцова-Вельяминова, в годы, на которые приходятся события романа «Война и мир», принадлежал князю Алексею Николаевичу Долгорукову[10]. Почему в народе распространился слух, будто Толстой описал в романе именно эту усадьбу как дом Ростовых, истории неведомо. Однако это не помешало уже в советское время поставить в центре усадьбы, напротив главного входа в Союз писателей СССР, памятник Льву Николаевичу.
После распада СССР в 1992 г. Союз писателей СССР был преобразован в Международное сообщество писательских союзов (МСПС), ставшее правопреемником Союза писателей. Главой сообщества на учредительном съезде был избран Тимур Исхакович Пулатов, советский, узбекский и российский прозаик. Заместителем его избрали Бориса Евгеньевича Шереметьева – писателя-мариниста, капитана I ранга, любимого ученика и творческого наследника Л.С. Соболева. Человек совестливый, деятельный, великой храбрости, Шереметьев фактически возглавил на многие годы противостояние московских и российских писателей-патриотов против писателей-либералов, европеизаторов постсоветского Отечества. Последних в российском масштабе возглавлял Евгений Александрович Евтушенко, а в Москве – поэтесса Римма Фёдоровна Казакова.
Об омерзительной драчке за огромное материальное наследство богатейшей общественной организации страны Союза писателей СССР[11] (дома творчества, индивидуальные дачи, поликлиники и т. п.) расскажу как-нибудь в другой книге. Изначально номером один встал вопрос: кому будет принадлежать дом Наташи Ростовой – патриотам или либералам? Либералам мешало правопреемство Международного сообщества. Споры и интриги не помогали. Они продолжались несколько лет, пока Евтушенко не обратился за поддержкой к команде Ельцина.
Делом дома Наташи Ростовой занялся непосредственно Сергей Александрович Филатов, в то время руководитель Администрации Президента Российской Федерации и главный приватизатор госимущества Москвы. Неожиданно выяснилось, что документов о передаче усадьбы в собственность Союзу писателей СССР в государственных архивах нет! Куда они подевались, неизвестно. А возможно, что их и не было никогда. Мало ли кто что говорит.
Московские власти подали на МСПС в суд с требованием платить городу аренду или покинуть усадьбу. Новые власти намеревались вселить в её помещения более выгодных арендаторов. Судебную войну вёл Б.Е. Шереметьев. Удалось затянуть процесс на целых три года.
Но сколько верёвочке ни виться, конец всё равно приходит. Как раз в то время Пулатов был переизбран, и МСПС возглавил престарелый С.В. Михалков.

